Историк, писатель, сценарист, успешный бизнесмен, сын шотландца и камчадалки, проведший значительную часть жизни за границей, Джон Шемякин третий учебный год работает учителем в образовательном центре Южного города, пригорода Самары. В интервью порталу «Волга Ньюс» он поделился своим видением проблем системы образования и их решений.
Фото:
— Что вас сподвигло вернуться в Россию и устроиться обычным учителем в школу? И не после начала СВО, а с 1 сентября 2021 года?
— Инстинкт самосохранения. Сказать по совести, я не могу жить так, как живут многие мои друзья. Я им завидую — живут полной жизнью. На охотах, на лыжах…
— У вас возник дефицит смыслов, или появилось желание быть полезным?
— Трудно сказать. Я набит всеми источниками для извлечения смыслов, я не самый тоскливый человек. Очень хочется, подбоченясь, приосаниться и сказать, что я решил «во имя» и все такое прочее… Но, к сожалению, не очень получается.
У меня нет абсолютно никакого желания говорить, что я пошел служить стране, нет желания сказать, что я пошел работать от скуки, от безделья, не хочу поддерживать версию, что я рехнулся, хотя моя родня активно ее продвигала. Я пошел работать в школу, потому что я по образованию педагог, у меня в дипломе написано «преподаватель» — это раз, я в школе практически никогда не работал — это два, мне необходимо отработать свой диплом. А если говорить серьезно, школа — это чудесная возможность попробовать как—то замолить мои прежние «косяки».
Сейчас я созрел до некоего призыва к тому, чтобы мужчина, перевалив через 50 или 55 лет, год отработал в школе. Показал — какие бывают мужчины старше 50 лет, если их не показывают в криминальной хронике. Дело в том, что у нас чудовищный дефицит нормальности. При этом востребована любая форма аномальности. Включаю телевизор и вижу мальчика, который плачет молоком на конкурсе, на экране тысячи аварий, абсолютно каких—то исчадий ада — сидят семьи алкоголиков и в прайм—тайм выясняют, кто чья дочь…
Я считаю, что бороться с этим дефицитом нормальности можно через такую альтернативную возрастную службу. Это и для здоровья очень полезно, в первую очередь, ментального. Дети учат тебя дисциплине. Делаешь вид, что учишь дисциплине их, на самом деле ты сам становишься самым дисциплинированным на свете. И начинаешь совершенно по—другому говорить, у тебя даже дыхание меняется. Тебе становится много чего интересно.
— Ваши ожидания от работы в школе и реальность совпали?
— Я представлял, что, когда приду в школу, все упадут на колени. Что за мной будут ходить школьники и молча переглядываться, потому что они онемели от восторга. Все пошло прахом, ничего этого нет…
Наши школьники исполнены чувства собственного достоинства. Иногда даже неловко спрашивать домашнее задание. У них есть Интернет, и любой преподаватель конкурирует не просто с Сетью в целом, а с релевантной для каждого ученика ее частью.
Я при этом не опасаюсь конкуренции с Интернетом, потому что понимаю всю условность своего всезнания, я могу и ошибаться.
— Почувствовали ли вы изменения в системе образования после февраля 2022 года? Как проявило себя государство?
— Единой государственной воли у нас как не было, так и нет. Государство не может сформулировать, какой тип человека ему необходим. Если при СССР был необходим работник—творец, а в 1990—е и нулевые нам прямо говорили, что мы формируем квалифицированного потребителя, то сейчас, как мне кажется, тема квалифицированного потребителя никуда не исчезла. По-прежнему мы должны формировать человека «компетентного», это в буквальном переводе значит «подходящего». Подходящего к чему, к кому?
Мы обходим все вопросы, связанные с тем, как мы видим будущее страны. Это базовый вопрос, на который мы по—прежнему отвечаем словами гимна: «Россия — великая наша держава». И все. «Все будет хорошо». Да, я верю, что все будет хорошо. Но непонятно — нам рабочие нужны будут? Нам инженеры нужны? Вроде бы нужны. Но тогда почему мы не можем спустить в школы такой запрос, почему стесняемся этого?
 При этом, что касается перемен, я всех прошу — дайте школе 10 лет, не трогайте ничего. Ничего не вводите, ничего не выводите. Школа — институт консервативный, он и придуман для консервации, для стабилизации. Он не придуман для революций и экспериментов. Школу необходимо освободить от новаторского ража.
При этом, что касается перемен, я всех прошу — дайте школе 10 лет, не трогайте ничего. Ничего не вводите, ничего не выводите. Школа — институт консервативный, он и придуман для консервации, для стабилизации. Он не придуман для революций и экспериментов. Школу необходимо освободить от новаторского ража.
У нас для того, чтобы школу заметили, ей нужно постоянно генерировать какие—то изменения. Хватит вам! Школа — это предприятие. Если мы для предприятий постоянно будем менять спецификации, ГОСТы, техусловия и требования безопасности, то это и станет основным занятием — а не выпуск продукции. Так и в школе. Поэтому изменения в школе нужны, но они не должны иметь отношения к организации образовательно—воспитательного процесса. Менеджмент школы — да, можно изменить. Например, уменьшить количество отчетов.
Нужно разбираться с высшим образованием. Это что такое — 90 процентов людей в стране с высшим образованием? Мы 16 лет учим наших детей, а потом они работают консультантами в салонах связи. Нам надо повышать престиж среднего специального образования. Произносишь слово колледж, а слышится «каблуха». Некий штампик есть… Образ рабочего, ремесленного, цехового человека должен быть раскручен.
Я не хочу говорить, что нужно, как при Хрущеве, гонять на заводы школьников, чтобы они там работали. Но нужно снижать ценность высшего образования и повышать престиж человека труда. Потому что рассказать мне о Мандельштаме могут 60 человек, а пошить костюм мне в Самаре не может никто. Вот серьезно. Я не очень капризный, просто фигура нестандартная. И вот, чтобы меня костюм устроил, мне приходится ездить в Москву. Нормальный хлеб пекут в трех местах в городе. Вы с ума посходили? Хлеб! В Самаре! И так за что ни возьмись…
Почему мы не можем делать нормальные часы, хотя бы электронные? Ну что за ерунда, почему мне приходится покупать одежду, сшитую в Бангладеш? Я там был, это гигантская помойка. И по стоимости джинсов я бы не сказал, что они сшиты дешевыми руками, вот честно.
Понимаю, что не надо превращаться в осажденный лагерь и все производить самим, но почему мы не можем делать такие простые вещи?
— Что у нас со статусом учителя — его нужно менять?
— Здесь нужно работать с родителями. Утрачено полностью доверие к учителю у всей страны. Учитель — это такой плохой врач, которому нужно объяснять, как лечить, и если этого не сделать — он тебя погубит. Вопрос — зачем же ты тогда ходишь к этому врачу? Мне отвечают — монополия, но мы уверены, что вот мы вам своих кровиночек водим, а вы все делаете неправильно.
Подчеркну, у меня при этом очень хорошие отношения со всеми родителями в школе.
Учитель беззащитен абсолютно. В 1990-е и нулевые годы мы допустили отношение к учителю как к обслуживающему персоналу, который оказывает услугу. А так как услуга эта бесплатная, то и отношение соответствующее.
Могу сказать, что зарплата учителя и сейчас стыдная, не позорно стыдная, но стыдная. Зарплата учителя равна зарплате специалиста банка, который только что пришел сидеть в окошке. Просто девочка, которая приходит в банк и говорит, у кого какой талончик, получает столько же, сколько учитель на полторы ставки.
— При этом говорят на полном серьезе, что учителю нельзя повышать зарплату, потому что в школе работать надо по призванию…
— Да, а то вдруг учителя разгонят инфляцию, начнут скупать меха, жемчуга, икру… Дело даже не в зарплате. Я государству благодарен, потому что оно на финансовую сторону внимание обратило, реально. Я вижу, что люди сейчас идут в педвузы, конкурсы такие, какие были в мое время в универе, — 10-12 человек на место.
Изменилась обстановка в школе, и в этом тоже огромная роль государства. В 1990—е годы в школах были и наркотики, и атмосфера тотальной разрухи. Сейчас исчезли пиво, сигареты. Очень много чудовищного исчезло. И только государству спасибо, что с этим покончено.
 Из школы ушло насилие в массе своей. По сравнению с уровнем агрессии, которое было в мое время, — уж точно. Дети перестали «махаться». Им есть чем заняться. В нашей школе дети буквально до ночи заняты в кружках — от авиамоделизма и робототехники до театральных студий. У нас четыре конкурирующих между собой танцевальных сектора, барабанщики. У нас есть спелеологи, есть люди, занимающиеся историческими реконструкциями, у нас кузница работает, мне постоянно приносят какие-то подарки — колечки, наконечники. У нас духовно-просветительский центр потрясающий.
Из школы ушло насилие в массе своей. По сравнению с уровнем агрессии, которое было в мое время, — уж точно. Дети перестали «махаться». Им есть чем заняться. В нашей школе дети буквально до ночи заняты в кружках — от авиамоделизма и робототехники до театральных студий. У нас четыре конкурирующих между собой танцевальных сектора, барабанщики. У нас есть спелеологи, есть люди, занимающиеся историческими реконструкциями, у нас кузница работает, мне постоянно приносят какие-то подарки — колечки, наконечники. У нас духовно-просветительский центр потрясающий.
Это я сейчас не рекламирую школу, я просто рассказываю, что изменилось в позитивную сторону.
Позитивного очень много. Потрясающая база — такой материально—технической базы я не видел нигде. Я не говорю сейчас о своем образовательном центре, я говорю вообще. Атмосфера улучшилась. Честнее стало в школе.
— Все-таки у вас нестандартная школа…
— А в чем наша нестандартность? Мы финансируемся по нормам.
— Значит вам повезло с директором и коллективом.
— Да, у нас прекрасный коллектив, чудесные учителя и замечательный директор.
— Возвращаясь к незавидному статусу учителя — что нужно сделать, чтобы его поднять?
— Быстро это сделать невозможно. Сейчас, говорят, будут создаваться какие-то комиссии при школе для защиты учителей. Посмотрим, что это будут за комиссии и чем они будут заниматься.
Если снять фильм в духе «Доживем до понедельника» и сделать это талантливо, то отношение к учителю изменится. Если сделать сериал об учителях, но не в духе Гай Германики, а нормальный сериал, с хорошими актерами и режиссером, посвященный школьному учителю, — отношение к учителю изменится.
Отношение к милиции после Сталина было чудовищное — стали снимать о них фильмы. Отношение к сотрудникам государственной безопасности после 1956 года стало безобразным — стали снимать фильмы о потрясающих красавцах—чекистах.
Забота о создании высокого образа учителя — это забота всенародная. Потому что есть у нас презумпция учительской вины, есть презумпция того, что учитель недорабатывает, что он истерит, что он дурак, старая жаба… Все раскручивают видео, где учительница орет или что—то творит, и никто не раскручивает видео, где учительница учит и где она спасает, в глубоком смысле слова.
Школа — это концентрация жизни, человек учится жить. Это не только социализация — человек через школу учится жить и говорить со всем миром в самом широком смысле этого слова. Важно, кто его этому учит, ведет за руку.
У меня сейчас некоторые старшеклассники пытаются написать заявление с просьбой перевести на домашнее обучение. Я им говорю, что они там погибнут. Понимаю, что они хотят с репетиторами в виртуальном пространстве закрыть вопрос знаний, просидеть у экрана монитора. Но они же рехнутся! Им необходимо то, что кажется бесполезным и ненужным, — астрономия, физкультура. Чтобы быть, как они сейчас говорят, «в ресурсе», нужно выполнять то, что вроде бы тебе и не нужно. А когда у тебя только онлайн—просвещение, и так день за днем — ничего хорошего не будет, это мое глубочайшее убеждение.
— Как оцениваете новый учебник истории?
— Учебник Владимира Мединского — это учебник, которго государство просило у исторического сообщества с 2003 года. Профессиональное историческое сообщество отказалось. С 2003 года четыре академика отказались. Апофеозом были 2013—2016 годы, когда была уникальная возможность создания единого учебника. Нет, не пошли на это. Появлялись письма от академиков ко всем участникам, что это все не надо, что это нехорошо…
Мединский за четыре месяца создал учебник военного времени. Ну что вы хотите от такого учебника, который написан в условиях СВО? Адекватен ли он? Да, он адекватен. Можно ли по нему учиться? Да.
Самое страшное, что произошло, — это то, что в школах появление этого учебника не вызвало никакого отклика — ни позитивного, ни негативного. Мы принесли бомбу — единый учебник, — а я с ужасом понял, что, даже если мы объявим, что истории вообще не будет, дети скажут: «А она была?»
История сейчас держится только на ЕГЭ. Отменят ЕГЭ — история переместится в разряд третьестепенных дисциплин.
Чтобы история была актуальна, нужно сначала ответить на вопрос, кого мы воспитываем. Проблема с воспитанием — в том, что при молчании государства запрос формулируют все кому не лень. А у страны пока нет модели будущего, мечты, так как у нас элита глубоко замкнута, это такой летающий остров Лапута, как у Свифта.
— Но у меня нет ощущения, что мы потеряли для страны нынешнее поколение школьников. Они в целом адекватно оценивают происходящее, патриотично настроены.
— Это правда, они оказались гораздо умнее, чем мы думали. У меня в классе сплошь украинские фамилии, и когда в феврале началось — я испугался. Но все воспринимают без кликушества, без фанатского дешманства. И это тоже заслуга государства. Да, есть огромное количество имитации, лютого бреда с экрана, но понимают происходящее на уровне растворенного «здесь русский дух». При этом у меня в классах кого только нет — таджики, армяне, казахи… Великое русское слово всех объединяет. Причем огромное количество детей — неформальные, альтернативные, волосы цвета колы, пирсинг. От них вроде трудно ждать чего—то, кроме пересказа нового аниме, но нет, плетут сети, делают носилки.
 В нашей школе дети по своей инициативе стали делать носилки. И это самое потрясающее открытие для меня. У нас есть носилки, у которых официальное название «носилки 8А», потому что этот класс их придумал и сделал. Это переработанные носилки типа «Фома». У нас многие родители, братья, выпускники — там, на фронте. Есть связь.
В нашей школе дети по своей инициативе стали делать носилки. И это самое потрясающее открытие для меня. У нас есть носилки, у которых официальное название «носилки 8А», потому что этот класс их придумал и сделал. Это переработанные носилки типа «Фома». У нас многие родители, братья, выпускники — там, на фронте. Есть связь.
Дети делают подшлемники, маскировочные сети вот сейчас. Я сам их отвозил — мы 3 км не доехали до линии соприкосновения, нас не пустили. Мы общались с нашими, самарскими, которые там. Сначала они на нас смотрели примерно как «что это такое?» А когда мы стали это все доставать, у них отношение к нам изменилось.
Дети организовываются сами, сами принимают какие—то решения, клянусь. Так, что даже я не знаю. «А вот это мы начинаем сейчас», — мне только сообщают, что им необходимо, чтобы я договорился об этом и об этом. Там все — и отличники, и двоечники, люди, которые друг друга не выносят в обыденной жизни. Я самый патриотичный патриот, но в моем детстве такого не было.
— Помимо учебников истории, какие еще требуются обновления?
— В точных науках ничего плохого в учебниках нет. В гуманитарных, в общем—то, тоже, но наши учебники по литературе мне не нравятся. Вернее, не столько учебники, сколько подбор литературы. Я занимаю этакое промежуточное положение — преподаю историю и обществознание, но под предлогом, что я писатель, вместе с нашим преподавателем литературы Светланой Александровной Карнауховой мы делаем мастер—классы, статьи печатаем, на методобъединениях выступаем.
Мы изучаем «Войну и мир». И это хорошо. Но не изучаем «Анну Каренину», хотя это гораздо более актуально. Мы изучаем «Обломова», где рассказываем, что лень — это плохо. Но не изучаем «Обыкновенную историю», лучший роман Гончарова, в котором рассказывается, как молодой человек строит свою карьеру. Я бы изменил программу, потому что если мы упустим это поколение и следующее поколение, то русская классическая литература превратится в ископаемое.
— А с героикой в программе все нормально?
— Я считаю, что ее недостаточно. Мы под героикой воспринимаем трескучую пропаганду, эти примеры учат нас героически умирать. Это неплохо, но нас не учат героически жить. И меня не учили. А жизнь как героика — это гораздо более сложно. Мы не видим героики в повседневности, не видим героики труда. Если у нас говорят «герой» — это обязательно павший.
Вот 100 лет назад что собой представляла наша губерния? У нас только что закончился голод, процентов 60 — неграмотные, люди живут в своих деревнях как в XVI веке. Социальный горизонт в 1923 году у подавляющего количества жителей моей страны был до соседнего села. Никаких социальных лифтов. Эпидемии одна за другой, вплоть до чумовых, тиф, возвратный сифилис… По стране бродило несколько миллионов безработных и несколько миллионов беспризорников.
И какой подвиг был совершен людьми 20—30 годов!.. Уже в 1941 году мы на равных противостояли лучшим достижениям Европы. И первыми полетели в космос. При этом отказались от системы «сдохни ты сегодня, а я завтра». Во всяком случае, русская цивилизация не предполагает идеи загрызть ближнего.
В конце концов, феномен советского человека в том, что мы смогли то, на что у Европы ушло 300 с гаком лет, мы это смогли — да, чудовищными кровью и страданиями, но совершили феноменальное чудо за 30 лет, когда из ничего, из желания, мечты и некоей окрыленности мы смогли вырваться из той участи, которая нам грозила.
И смогли тиражировать этот сценарий. Вот что меня поражает. Меня поражает, как вообще наша приполярная цивилизация смогла выжить и вопреки всему вырваться на такой оперативный простор.
— У вас в одном из эфиров мелькала фраза «мы взялись за ум». В смысле как страна, общество. То есть у вас есть это ощущение, что все всерьез?
— Да, конечно. Меня только смущает, что мы это делаем всякий раз, когда по небу не птицы летают, понимаете, да? Как только начинаются тучи, как только эйфория сменяется тревогой — мы беремся за ум. Да, мы стали строже, отчетливее, в нас проснулась национальная гордость. К чему это приведет — пока не знаю, но вижу, что она просыпается, и это славно. К огромному сожалению, это только в годину испытаний прорезывается, а потом оно испаряется. Мы не чувствуем себя вправе защищать себя так, как можем. А это же грандиозный комплекс неполноценности! И это ведь не от того, что в нас втюхивали в последние 20—30 лет, — это где—то с 1956 года.
Половина моих соседей на острове, на котором я жил, — немцы. Прекрасные были такие крепыши. Чем занимались во время войны? Жгли наши танки, зиговали, состояли в гитлерюгенде. У них не было раскаяния, они говорили, что время было «удивительное». С другой стороны, есть еще один тип европейцев — швед. Он мне говорит: ты знаешь, я родился 22 июня 1941 года. Я спрашиваю — это когда война началась? А он спрашивает — какая война? Для них это ни о чем — они не воевали. И они в полном обалдении — откуда в России столько агрессии, недоумевают. Действительно, откуда? Они же просто пришли нас убивать, и не в первый раз. Какое еще может быть отношение? Даже Норвегия, Голландия, — и те накидали дивизий против нас. Я не по поводу сведения счетов, я по поводу объяснения.
Когда моя старшая сестра по отцу начинает устраивать выговоры — как так можно, — я приводил ей и те доводы, и эти, потом психанул и сказал: «Россия — великая держава, да. Имеет право она «лажать»? Вот вы, англичане, признаете, что «лажаете»? Да, вы признаете. Даже если мы сейчас ошибаемся (а я так не думаю) — мы потом сами понесем за это ответственность, сами себя изругаем так, что никакого трибунала не понадобится»… Не надо нас поучать. Мы пытаемся противопоставиться гигантскому напору на нас со всех сторон. Вот что смогли — то и противопоставили.
— При этом у каждого патриота свой кусок истории, который он считает золотым, и он за это спорит с другими патриотами. Единого фронта не получается. У не-патриотов таких проблем не возникает.
— Мы друг друга за кусок хлеба не загрызем, но за идею — запросто. Мы же гражданскую войну закончили давно, а по—прежнему человек с имперской ориентацией и человек с ориентацией «на Сталина» — они просто не могут находиться в одном помещении, одним воздухом дышать не могут. Потому что у них дела нет общего. Им поручить построить школу — через год эти люди будут на мотив «Боже, царя храни» петь «Вихри враждебные веют над нами».





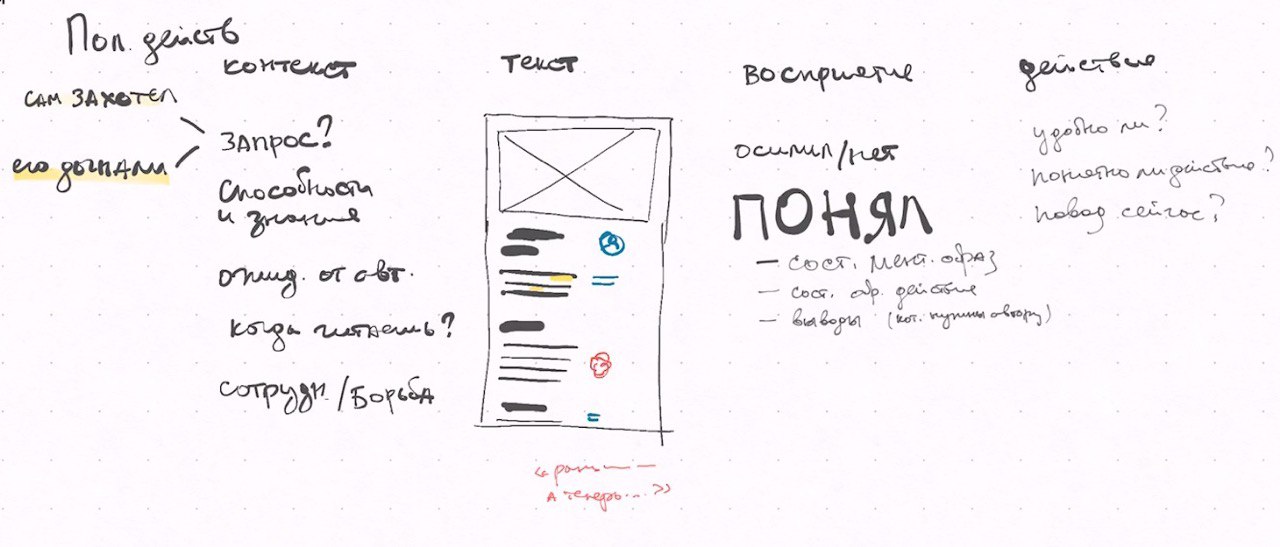
Оставить комментарий