Кузьминов Ярослав Иванович, кандидат экономических наук, ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 20. E-mail: kouzminov@ hse.ru
Песков Дмитрий Николаевич, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив. Адрес: 121099, Москва, Новый Арбат, 36. E-mail: dn.peskov@asi.ru
Аннотация. Какие процессы, протекающие за пределами сферы образования, повлияют на развитие университетов через 15–20 лет? С кем они будут конкурировать? Как изменятся образовательные рынки? Какими будут отношения университетов будущего с внешним окружением, с социумом, с государством, с компаниями, с бизнесом, с другими университетами? Будущее университетов обсудили ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков. Встреча была организована журналом «Вопросы образования».
Опубликовано в журнале Вопросы образования/ Educational Studies Moscow. 2017. № 3
 Аржанова Ирина Вадимовна, исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров. Добрый день. Не знаю, насколько привычен формат такой встречи для Высшей школы экономики, для меня это, честно говоря, очень редкая возможность услышать дискуссию двух знаковых экспертов в российском— да и не только в российском, а в глобальном— образовании, чьи позиции иногда сходятся, иногда расходятся, но всегда очень интересные. Сегодня мы ведем разговор о будущем университетов. В нем участвуют Ярослав Иванович Кузьминов, ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», и Дмитрий Николаевич Песков, руководитель направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив. Разговор может получиться немного футуристичным, и я думаю, что от окончательного улета в облака нас спасет то, что и Ярослав Иванович, и Дмитрий Николаевич— это люди, которые очень твердо стоят на земле и понимают и текущую ситуацию в российской системе высшего образования, и глобальные тенденции. Они имеют очень богатый опыт работы в наших университетах, поэтому реально оценивают положение. Организатор мероприятия — журнал «Вопросы образования» — задал временные рамки будущего, которое мы будем рассматривать: 15 и 30 лет. Это не очень далекое будущее, оно вполне обозримое. Если говорить о ближайших 15 годах, то это 2030–2032 гг., именно к этой дате готовятся основные документы по развитию нашей страны, и я знаю, что специалисты Высшей школы экономики и сам Ярослав Иванович глубоко погружены в эту тематику. Дмитрий Николаевич уже с 2011 г. ведет форсайтный проект, посвященный тому, как будет выглядеть образование, и высшее в том числе, в 2030 г., т. е. тема для дискуссантов совсем не новая.
Аржанова Ирина Вадимовна, исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров. Добрый день. Не знаю, насколько привычен формат такой встречи для Высшей школы экономики, для меня это, честно говоря, очень редкая возможность услышать дискуссию двух знаковых экспертов в российском— да и не только в российском, а в глобальном— образовании, чьи позиции иногда сходятся, иногда расходятся, но всегда очень интересные. Сегодня мы ведем разговор о будущем университетов. В нем участвуют Ярослав Иванович Кузьминов, ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», и Дмитрий Николаевич Песков, руководитель направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив. Разговор может получиться немного футуристичным, и я думаю, что от окончательного улета в облака нас спасет то, что и Ярослав Иванович, и Дмитрий Николаевич— это люди, которые очень твердо стоят на земле и понимают и текущую ситуацию в российской системе высшего образования, и глобальные тенденции. Они имеют очень богатый опыт работы в наших университетах, поэтому реально оценивают положение. Организатор мероприятия — журнал «Вопросы образования» — задал временные рамки будущего, которое мы будем рассматривать: 15 и 30 лет. Это не очень далекое будущее, оно вполне обозримое. Если говорить о ближайших 15 годах, то это 2030–2032 гг., именно к этой дате готовятся основные документы по развитию нашей страны, и я знаю, что специалисты Высшей школы экономики и сам Ярослав Иванович глубоко погружены в эту тематику. Дмитрий Николаевич уже с 2011 г. ведет форсайтный проект, посвященный тому, как будет выглядеть образование, и высшее в том числе, в 2030 г., т. е. тема для дискуссантов совсем не новая.
Нашим спикерам сегодня предложено затронуть в их ключевых выступлениях три темы, может быть, четыре, но они вправе расширить список тем, которых хотят коснуться. Ограничены они только по времени— по 20 минут на выступление. Первая тема, на которую им было предложено откликнуться: какие масштабные трансформации — социальные, технологические, экономические и геополитические— произойдут в рассматриваемой временной перспективе, за ближайшие 15–30 лет, и как изменятся университеты под действием этих внешних трансформаций, как изменится система высшего образования.
Вторая тема, которой мы хотели бы коснуться,— какой будет основная деятельность самих университетов. Они будут выполнять все те же функции и роли? Или изменится их внутренняя «начинка»?
Третий вопрос очень важный, чтобы не быть университетоцентрированными в сегодняшней дискуссии. Каким будет новый рынок к 2030 или 2060 г. и какова роль университетов на этом новом рынке? Кто будет конкурентами университетов на этих рынках, а может быть, кто будет их партнерами?
С этим связана следующая тема, следующий вопрос: как изменятся ролевые и, может быть, функциональные связи университетов будущего с внешним окружением, с социумом, с государством или с государствами, с компаниями, с бизнесом, с другими университетами, если они вообще останутся?
После того как участники дискуссии представят свои позиции относительно университетов будущего, они смогут в течение пяти, максимум десяти минут среагировать на выступление оппонента, или партнера, или коллеги, или как мы будем к этому относиться. Затем у меня как у модератора дискуссии будет возможность задать один-два, максимум три вопроса участникам, и далее наши коллеги, которые присутствуют в зале, смогут также сформулировать свои вопросы и получить ответы. Я думаю, что, как в «Мастере и Маргарите», «иные шахматные журналы заплатили бы недурные деньги, если бы имели возможность напечатать сегодняшнюю партию».
Это рамка, я на этом останавливаюсь и хотела бы предоставить слово нашим участникам. Но прежде чем и Ярослав Иванович, и Дмитрий Николаевич начнут высказывать свою позицию по теме университетов будущего, я хотела бы предложить им ответить на один конкретный вопрос. Ярослав Иванович представляет университет, в котором он работает, он глубоко погружен в систему высшего образования, и для него университетская среда—это, как мне кажется, одно из самых главных дел в жизни. Дмитрий Николаевич, хотя имеет за плечами большой опыт работы в университете и с университетами, все-таки сегодня занимает немного стороннюю позицию, экспертную. И в этом смысле для участников дискуссии университеты, по-моему, представляют разную сущность. Университет, о котором вы будете говорить, университет будущего— это субъект для вас или объект?
 Песков Дмитрий Николаевич, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив. Большое спасибо. Для меня, конечно, в нынешней ролевой позиции это объект. Безусловно. Это некоторый объект, который является предметом проектирования в нашей деятельности. То, над чем мы думаем, во всяком случае последние шесть лет,— это как комбинировать эти объекты, как изменять их форму для решения тех или иных задач. Наше мышление носит сугубо прикладной характер, мы думаем о том, как использовать университеты как инструмент, а не как самоценность.
Песков Дмитрий Николаевич, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив. Большое спасибо. Для меня, конечно, в нынешней ролевой позиции это объект. Безусловно. Это некоторый объект, который является предметом проектирования в нашей деятельности. То, над чем мы думаем, во всяком случае последние шесть лет,— это как комбинировать эти объекты, как изменять их форму для решения тех или иных задач. Наше мышление носит сугубо прикладной характер, мы думаем о том, как использовать университеты как инструмент, а не как самоценность.
 Кузьминов Ярослав Иванович, ректор НИУ ВШЭ. Понятно, что для меня университет — это субъект, это коллективный субъект. Чем университет отличается от предприятия, например? Владелец предприятия может относиться к работникам как к факторам производства. Это значит, они могут быть замещены другими, замещены новым оборудованием, если это станет более выгодно, и ни у кого такой поворот событий не будет вызывать вопросов. Работники предприятия могут работать «от сих до сих», и это будет нормально с точки зрения результата. С университетом не так. Кто бы ни выступал формальным его учредителем и «хозяином», реальными участниками организации под названием «университет», его фактическими совладельцами являются его профессора, его преподаватели, в меньшей степени студенты, хотя в некоторых университетах студенты тоже чувствуют свою ответственность, чувствуют свои права на университет. В этом отношении относиться к университету только как к объекту неправильно и опасно. Любые реформы образования оказываются под угрозой провала, если мы придумываем замечательные оптимальные схемы, но не замечаем настроения людей внутри этих схем, а они могут опрокинуть практически любую реформу. Если учитель, которому повысили зарплату, но заставили два часа в день отчитываться и увеличили его нагрузку сверх предельных 22–24 часов, негативно реагирует на наши усилия и заботы, то в конечном счете реформа образования будет сорвана. В университете то же самое: программа проваливается, если преподаватели не видят в ней себя. Поэтому, конечно, это субъект, это коллективный субъект. У каждого университета есть своя субъектность, и она никогда не представлена ректором, она представлена неким сложно организованным коллективом.
Кузьминов Ярослав Иванович, ректор НИУ ВШЭ. Понятно, что для меня университет — это субъект, это коллективный субъект. Чем университет отличается от предприятия, например? Владелец предприятия может относиться к работникам как к факторам производства. Это значит, они могут быть замещены другими, замещены новым оборудованием, если это станет более выгодно, и ни у кого такой поворот событий не будет вызывать вопросов. Работники предприятия могут работать «от сих до сих», и это будет нормально с точки зрения результата. С университетом не так. Кто бы ни выступал формальным его учредителем и «хозяином», реальными участниками организации под названием «университет», его фактическими совладельцами являются его профессора, его преподаватели, в меньшей степени студенты, хотя в некоторых университетах студенты тоже чувствуют свою ответственность, чувствуют свои права на университет. В этом отношении относиться к университету только как к объекту неправильно и опасно. Любые реформы образования оказываются под угрозой провала, если мы придумываем замечательные оптимальные схемы, но не замечаем настроения людей внутри этих схем, а они могут опрокинуть практически любую реформу. Если учитель, которому повысили зарплату, но заставили два часа в день отчитываться и увеличили его нагрузку сверх предельных 22–24 часов, негативно реагирует на наши усилия и заботы, то в конечном счете реформа образования будет сорвана. В университете то же самое: программа проваливается, если преподаватели не видят в ней себя. Поэтому, конечно, это субъект, это коллективный субъект. У каждого университета есть своя субъектность, и она никогда не представлена ректором, она представлена неким сложно организованным коллективом.
Аржанова. Это была исходная позиция, и сейчас у нас есть возможность выслушать точку зрения Дмитрия Николаевича и Ярослава Ивановича о будущих университетах, или об университетах в будущем.
Песков. Мои тезисы сводятся к следующему. Ближайшие 20 лет в целом довольно понятны людям, которые занимаются проектированием будущего с точки зрения одного определяющего тренда— тренда технологической революции, подвидом которого является тренд на цифровизацию, построение посредников. Этот тренд, как мне кажется, является базовым, и он меняет практически все сложившиеся модели, в том числе с точки зрения их содержания. Если раньше действительно предприятие относилось к своим сотрудникам как к некоему виду активов, то в новой логике успешные предприятия становятся акционерными обществами, доля капитала которых есть у большинства работающих. И в этом смысле они становятся похожими на университеты. Тренд на технологическую революцию и цифровизацию, с моей точки зрения, опосредуется двумя другими трендами, не менее важными, но не способными изменить магистральное направление развития. Это демографический и экономический тренды— я их специально свожу к одному, и геополитический и идеологический тренды. Фактически они являются Сциллой и Харибдой для процесса технологического изменения, который мы в ближайшие 20 лет будем наблюдать.
20 лет — я беру именно такой горизонт, потому что за ним мои способности прогностические отказывают. За рамками этого срока мы входим в период, когда даже те тренды, которые до этого казались предельно устойчивыми в экономике… Ведь как мы обычно считаем? Вот есть атомные станции, или железные дороги, или крупные пассажирские самолеты, у них есть жизненный цикл — 30, 50 или 70 лет, и можно считать окупаемость, можно считать бизнес-модели. А за 20-летним горизонтом, за 2035 г.— это то, что в компьютерных играх называют «туман войны», т. е. слабо различимые направления.
Итак, есть базовый тренд и тренды, которые могут его замедлять либо ускорять. При этом ключевое свойство тренда технологической революции сегодня — это постоянно действующее ускорение, т. е. каждая следующая волна технологической революции проходит быстрее, чем предыдущая. И это создает дополнительные сложности в прогнозировании и реагировании. Если посмотреть на наши собственные продукты, «Атлас новых профессий», например, выглядел абсолютно радикальным в 2011 г., сейчас он нам кажется консервативным. Целый ряд трансформаций происходит гораздо быстрее, чем мы ожидали.
Как на эти тренды реагируют сегодня университеты? Мне кажется, красить их одной краской принципиально нельзя. Я выделяю для себя четыре типа университетов в современном мире. Первый тип— старая аналогия камеры хранения, все то, что работает в аналоговых экономиках, это социальная функция удержания активной молодежи в определенном возрасте. Второй тип — давайте назовем его «служанки роста»: университет решает прикладные задачи для быстрого роста соответствующих экономик. Когда-то это было характерно для России, наверное, в «нулевые» годы, сейчас это предельно характерно для стран Юго-Восточной Азии и Австралии. Еще один тип университетов — это университеты культурной монополии, т. е. это британские, французские лидирующие университеты, которые до сих пор эксплуатируют ренту своих стран как когда-то культурных империй и собирают эту самую культурную ренту за счет студентов, которые приезжают туда учиться. И университеты-«воронки»: это тоже часть британских университетов и в первую очередь американские лидирующие университеты, которые находятся в уникальной ситуации. У них нет необходимости строить полноценные экосистемы в случае, если они ориентированы на привлечение талантов со всего мира и на эксплуатацию себя как такого рода «воронок». И тогда, как говорится, trash in— trash out, genius in— genius out. Есть такая гарвардская модель: ты собрал гениев со всего мира, и они тебе выдадут хороший результат, даже если ты особенно ничего делать не будешь. При этом мне не известно ни одной модели современного университета, адекватной вызовам цифровой экономики. И характерным признаком неспособности университетов отвечать на эти вызовы является то, что основные держатели цифровой экономики, а к ним, как правило, относят семь-восемь крупнейших мировых компаний, которые сегодня являются лидерами цифровой трансформации в мире,— четыре американские: Microsoft, Google, Facebook и Amazon, сейчас, наверное, к ним добавится империя Маска, пятая, и три китайских главных монстра— они, как правило, не входят в полноценный симбиоз с университетами и решают задачи по воспитанию кадров внутри себя, тоже работая как «воронки» или выстраивая собственные внутренние процессы обучения и подготовки кадров.
Среди требований, которые цифровая экономика, экономика данных предъявляет к экономикам и к обществам в 20-летнем горизонте, я бы выделил четыре главных. Первое требование, конечно, это постановка мышления, потому что главная ценность экономики данных — это люди, умеющие мыслить, способные ставить модели, а не работать по ним. В то же время в подавляющем большинстве современных университетов когнитивную основу обучения составляют шаблоны, университеты ставят в значительной степени шаблонное мышление. На это работают даже самые продвинутые модели, возьмем хотя бы модель кейсов в Гарварде — она тоже про шаблоны, про повторение пройденного опыта. Второе требование— это стимулирование риска, потому что новая, возникающая реальность требует постоянного риска и нужна функция максимизации риска. В то же время университеты по своей сути, создавая некоторое «бутылочное горлышко» на выходе, требуют от студентов персональной стратегии избегания рисков, а не его максимизации. Третье требование — это скорость, т. е. нужны очень быстрые результаты, а университеты работают по интервалам. И четвертое— это персонализация, а университеты работают в основном с массовыми процессами.
Необходимо также разделять университеты на основании модели мотивации, в которой они работают. «Камеры хранения» могут работать с моделью мотивации для студентов, которую можно условно обозначить как «не приходя в сознание»: им не требуется мышление, они работают в индустриальных моделях, и требований к ним особенных нет. Множество университетов вполне этим требованиям удовлетворяет. Гораздо важнее те 15% университетов, которые работают по ролевым моделям, и те 5% людей, которые способны ставить себе персональные задачи. Мне кажется, что с продвижением к горлу этой «воронки» ценность классической модели университетов стремительно уменьшается, и для 5% ее ценность наименьшая. К сожалению, опыт и статистика говорят, что это распределение сохраняется, т. е. подавляющее большинство студентов бросают учебу из-за низкой мотивации, а те, кто доходит до конца и получает высокие результаты,— это и есть элитные студенты современных университетов. Этот факт, мне кажется, свидетельствует о том, что это сегодня не вина, а беда системы образования в мире, и требование массовой мотивации является важнейшей задачей, которую выдвигает экономика данных.
Российская система образования входит сегодня в сложнейшую ситуацию, когда между ней и потребностями экономики данных пролегают два барьера. Первый барьер — это, я бы сказал, базовый эффект всей образовательной политики в России в последние десятилетия, который состоит в том, что стратеги образования— к ним я отношу и себя— вошли в противоречие: чем лучше мы готовим кадры для действующей аналоговой экономики, тем меньше шансов у нас построить экономику данных, экономику цифровую. Простая логика: если мы сегодня продуцируем модель дуального образования, базовых кафедр, максимизируем функцию связи университетов с промышленностью, с действующей экономикой, это означает, что людей для прорыва у нас практически нет. Это означает, что для стартапов остается тоненький ручеек. И в этом смысле чем лучше мы работаем, тем хуже для экономики.
Второй барьер— это барьер когнитивный. Если мы не можем взять новые кадры, а плюс еще демография у нас вдвое практически уменьшает поток выпускников в ближайшие годы, то, может быть, нам можно переучить старые кадры? Оказывается, нет: действующая программа повышения квалификации аналоговой экономики в цифровой экономике вообще не работает, потому что модель компетенций совершенно другая, требования по компетенциям совершенно другие, и никто вообще не знает, способны ли мы быстро и качественно переобучать. Ответа на этот вопрос с точки зрения системного анализа и статистики я не видел. И это означает, что у университетов остаются неустранимые дефекты, которые не позволяют им выполнять свою ключевую функцию в будущем.
Первый из этих дефектов состоит в том, конечно, что университеты — заложники капексов. Они живут в зданиях, здания избыточно дорогие, и это плохо для мышления. То есть мышление, которое формируется у студентов,— это опосредованное вечностью знание номерного фонда и других явлений, которые с этим связаны. Второй неустранимый дефект университетов— это синхронность образования. Фактически синхронность образования, заданные форматы «4+2» либо какие-то другие— это жертвование талантами в пользу тормозов. Третье: возможность концентрировать лучших преподавателей в одном месте задает падение качества и шаблонность мышления. Четвертое: университеты работают в конкурентной модели, а модель рынка сегодня требует не только модели competition, но и модели платформизации. И наконец, долгий процесс закупок и всего остального в университетах не позволяет гибко использовать современные технологии. При этом понятно, что некоторые функции, характерные для университетов, останутся, и останутся критически важными: это постановка фундаментального мышления, формирование связей и сообществ студентов, это традиции и то, что называется научными школами. Думаю, что когда-то они тоже будут радикально изменены, но скорее не на горизонте 20 лет, а на том горизонте, который задавали вторым,— на горизонте 50 лет.
Теперь про роли и функции университета в отношении с миром. Мне кажется, что мы долго работали с ними как с прилагательными — прилагательными обозначали роли, и это ошибка определенная. Мы говорили про преподавательский университет, исследовательский университет, потом предпринимательский университет. Как все другие феномены социальной жизни претерпевают изменения собственной сущности, так и университеты должны эти изменения претерпеть. С точки зрения задач экономики они должны стать генераторами новых отраслей, новых бизнес-моделей, новых компаний. Не занимать пассивную позицию, а активно создавать все это, потому что других акторов, способных реализовать эту перспективную функцию с учетом требований технологической революции, просто нет. Университеты обязаны скрестить свою модель с моделью венчурного фонда, при этом не только венчурного фонда с инвестициями в стартапы, но и венчурного фонда с инвестициями в таланты. Это функция, которая, как мне кажется, сейчас в университетах не проявлена, и должен появиться return on investment как экономическая функция у оплаты обучения, ну и, конечно, максимизация функции по созданию и трансляции знания— она возникает в этой модели естественным образом. Но эта функция не аналитическая, эта функция проективная или сопутствующая функция создания новых отраслей.
Мне кажется, что возможны новые модели построения университетов. Мы делали анализ: какие могут быть модели принципиально новых университетов, которых сегодня не существует в России и которые есть кое-где в мире. И мы выделили несколько функций, на которых эти модели можно строить. Например, это функция моделирования окружающего мира. Мы это называем setting university. Это функция максимизации функции моделирования окружающего мира, т. е. функция моделирования в квадрате, когда университет готовит, условно говоря, демиургов, способных моделировать и создавать окружающие миры. Это функция максимизации ресурсов. Для бедных экономик мы должны иметь функцию гиперконцентрации ресурсов. По словам одного из известных нам стратегов, «в России есть ресурсы только на один университет». Это максимизация функции создания новых стартапов, это модель, которую мы называем rocket unicorn university, т. е. это университет, который порождает единорогов. Это функция максимизации идеологии, проявленная сегодня в мире на модели singularity university. Это идеологический университет, и у него вполне может быть конкурентная модель подобного типа. Это функция максимизации мотивации, в которой мы решаем проблему 80% студентов и детей, которые не заинтересованы в обучении. Это функция максимизации проявления таланта— интереснейшая вещь: мы сегодня проявляем таланты под некоторые заранее задуманные требования. А мир и революция от нас требуют максимизации экстремумов, когда мы поощряем любой талант, проявленный в любом направлении. Это функция максимизации конкурентных преимуществ российской экономики, в первую очередь в части цифровой экономики, программирования и компаний, которые работают на глобальном рынке. И функция максимизации вызова, когда университет посвящает всю свою миссию созданию какого-то одного принципиально нового продукта, который переворачивает мир. И наконец, то, что называется Russian fundamental university — это максимизация накопленного научного капитала. Это примерно то, что сегодня обсуждается в рамках выборов в Российской академии наук: как сделать один большой сетевой академический университет на основе достижений российской академической науки. Ну и, наверное, есть еще функция максимизации экосистемы, т. е. максимального вовлечения людей с наличествующими компетенциями для решения задач в преподавании, которое сегодня ограничено нормативными рамками, заданными регулятором.
Вот новые модели, ни одна из них сегодня на рынке не представлена. Это наше семантическое поле, в нем мы рассуждаем о будущем и о типах новых университетов, которые могут появиться в России. Спасибо.
Аржанова. Спасибо. И, может быть, немного о том, кто будет конкурентами?
Песков. В каждой из этих моделей все конкурируют со всеми. Потому что университет— это не место, это функция. В этой модели функция у всех— максимизация собственных конкурентных преимуществ. Как говорится, все, к чему ты прикасаешься, становится университетом. А так, еще раз, все конкурируют со всеми за ключ к тому, кто является держателем идентичности. Вот сегодня мы наблюдаем процесс слияния держателей идентичности. А идентичность сегодня есть у кого? У банков, у социальных сетей, у государственного регулятора, у сотовой компании. Это то, где мы сегодня размещаем собственную идентичность. И логика платформизации будет требовать слияния этих провайдеров идентичности. Сможет ли университет стать таким провайдером идентичности человека? Да, если удастся построить наследуемую модель компетенции в течение жизни человека. И тогда университет сможет занять эту очень важную функцию. Но это требование, мне кажется, действующая модель системы университетов вообще выполнить не может, у нее для этого нет ни рук, ни ног, никаких других органов, которыми бы она могла это сделать.
 Кузьминов. Мне кажется, нам нужно выделить факторы, которые будут определять развитие послешкольного образования в ближайшие 20–25 лет. Сегодня мы эти факторы можем увидеть, наметить. Вполне возможно, что мы ошибемся в их масштабе, но мы точно их сможем назвать. Первое, и Дмитрий Николаевич уже говорил об этом,— это качественное изменение роли человеческого капитала в экономике. Если 50–60 лет назад, когда Гагарин полетел в космос, людей, которые получали деньги за то, что они создавали новое,— не случайно создавали новое, а именно на это были наняты и за это оплачиваемы — насчитывалось несколько процентов в самых развитых экономиках мира, то сегодня в развитых странах работники, которые нанимаются как инноваторы, нанимаются не для повторения чего-то, а конкретно для создания нового, и им именно за это новое платят деньги, составляют не меньше 20% рынка труда. По всей видимости, мы видим тренд: их доля еще сильнее возрастет и практически будет такой же, как доля среднего класса, который составляет большинство в наиболее развитых странах и 25–35% в России и Китае. Это новый средний класс такой— творческий средний класс. Он будет задавать спрос на деятельность университетов, где действительно не повторяют знания, не осваивают шаблон, а учат творчеству, т. е. учат обоснованию нового. В этом отношении мы можем ожидать из этого тренда восстановления гумбольдтовского университета, как ни странно это звучит, потому что в XIX в. гумбольдтовский университет как раз и был настроен на постоянное взаимодействие с наукой, на постоянное отрицание старого. Просто это было тогда для элиты, для одного из тысячи, а завтра это будет для большинства. В университетах будет расти спрос на творчество, на обоснование нового.
Кузьминов. Мне кажется, нам нужно выделить факторы, которые будут определять развитие послешкольного образования в ближайшие 20–25 лет. Сегодня мы эти факторы можем увидеть, наметить. Вполне возможно, что мы ошибемся в их масштабе, но мы точно их сможем назвать. Первое, и Дмитрий Николаевич уже говорил об этом,— это качественное изменение роли человеческого капитала в экономике. Если 50–60 лет назад, когда Гагарин полетел в космос, людей, которые получали деньги за то, что они создавали новое,— не случайно создавали новое, а именно на это были наняты и за это оплачиваемы — насчитывалось несколько процентов в самых развитых экономиках мира, то сегодня в развитых странах работники, которые нанимаются как инноваторы, нанимаются не для повторения чего-то, а конкретно для создания нового, и им именно за это новое платят деньги, составляют не меньше 20% рынка труда. По всей видимости, мы видим тренд: их доля еще сильнее возрастет и практически будет такой же, как доля среднего класса, который составляет большинство в наиболее развитых странах и 25–35% в России и Китае. Это новый средний класс такой— творческий средний класс. Он будет задавать спрос на деятельность университетов, где действительно не повторяют знания, не осваивают шаблон, а учат творчеству, т. е. учат обоснованию нового. В этом отношении мы можем ожидать из этого тренда восстановления гумбольдтовского университета, как ни странно это звучит, потому что в XIX в. гумбольдтовский университет как раз и был настроен на постоянное взаимодействие с наукой, на постоянное отрицание старого. Просто это было тогда для элиты, для одного из тысячи, а завтра это будет для большинства. В университетах будет расти спрос на творчество, на обоснование нового.
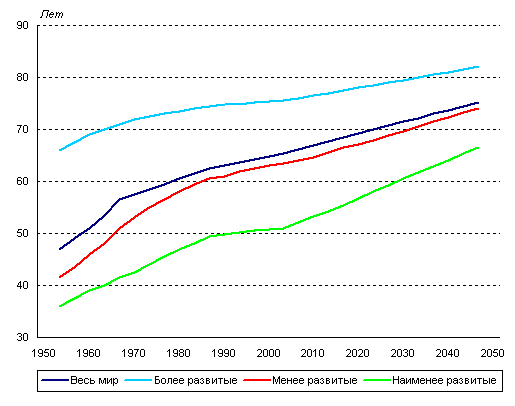
Четвертый фактор — это резкий рост платежеспособного спроса на образование. Коммерциализация образования зависит не от желания университетов продать свои услуги, а от платежеспособного спроса. Городское население массово переходит в средний класс. А что такое средний класс? Это экономическое состояние человека, в котором он может выбирать направления и формы своего потребления, когда большую часть дохода он тратит не на предписанные физиологией или простой рутиной продукты, а на то, что он может выбирать по своему разумению. Средний класс — это свободный потребитель. Вот это поле выбора, возрастая, будет в расширяющемся виде включать платежеспособный спрос на образование. Мы сейчас видим, что у нас резко, за пять лет примерно в полтора раза, возросла готовность людей платить за хорошее, за лучшее образование для своих детей. В декабре 2016 г., когда у нас было последнее измерение в рамках Мониторинга экономики образования, 31% опрошенных положительно ответили на вопрос, готовы ли они отдавать 5% своего дохода на то, чтобы их ребенок или они сами получали хорошее образование. Еще 10% готовы отдавать 15% своего дохода на то, чтобы их дети получали наилучшее образование, которое для них достижимо. То есть больше 40%, почти половина населения! Эти показатели резко, в разы выросли по сравнению с аналогичным опросом 2011 г. Что потянет за собой рост платежеспособного спроса? Те же новые формы предложения образования, о которых я говорил до этого, плюс сами университеты начнут более активно выходить на рынок. Уверен, что новые учебные центры, образовательные стартапы, малые образовательные фирмы будут успевать раньше. Другое дело, что есть серьезные основания предположить, что университеты будут их потом покупать, как крупные фармацевтические компании покупают фармацевтические и химические стартапы, но в любом случае это будет абсолютно нормальная, достойная, очень экономически эффективная ниша, которая будет «заводить» экономику.
Пятый фактор — глобальный язык. Английский станет глобальным профессиональным и деловым языком. Он становится таким на наших глазах, национальные границы энергично стираются вне зависимости от желания государств, и это будет означать, что, по крайней мере в послешкольном образовании и, скорее всего, в школьном тоже, у нас рынок глобализируется. Уровень конкуренции в образовании будет задаваться не на национальной площадке, он будет задаваться на площадке глобальной.
 Глобализация английского языка действует в том же направлении, что и шестой фактор— развитие онлайн-обучения и революция онлайн-курсов. Что такое революция онлайн-курсов? Люди увидят, что, вместо того чтобы слушать курс у плохого запинающегося преподавателя, который не читал многих новых книжек, они могут прослушать этот курс непосредственно у профессора из Йеля или Лондона, который эти новые книжки пишет. Они увидят, что, вместо того чтобы изучать некий производственный процесс на плохо работающем и устаревшем оборудовании в своем колледже, они могут найти в Сети замечательные формы освоения этой технологии с более продвинутым оборудованием — возможно, это будет на местном рынке, а может быть, будет поставляться из Австралии. Такую возможность дают программы-тренажеры, которые могут быть предоставлены в онлайне— вопрос только в скорости интернет-соединения. Новые возможности уже через десять лет сильно смешают карты в высшем, в прикладном профессиональном образовании, да и во всем образовании вообще.
Глобализация английского языка действует в том же направлении, что и шестой фактор— развитие онлайн-обучения и революция онлайн-курсов. Что такое революция онлайн-курсов? Люди увидят, что, вместо того чтобы слушать курс у плохого запинающегося преподавателя, который не читал многих новых книжек, они могут прослушать этот курс непосредственно у профессора из Йеля или Лондона, который эти новые книжки пишет. Они увидят, что, вместо того чтобы изучать некий производственный процесс на плохо работающем и устаревшем оборудовании в своем колледже, они могут найти в Сети замечательные формы освоения этой технологии с более продвинутым оборудованием — возможно, это будет на местном рынке, а может быть, будет поставляться из Австралии. Такую возможность дают программы-тренажеры, которые могут быть предоставлены в онлайне— вопрос только в скорости интернет-соединения. Новые возможности уже через десять лет сильно смешают карты в высшем, в прикладном профессиональном образовании, да и во всем образовании вообще.
Седьмой фактор—это изменение рынка труда. Я уже говорил, что качественно изменится характер труда, и Дмитрий Николаевич отметил, что на рынке будет царить постоянное обновление компетенций, постоянное обновление квалификации. Соответственно, наряду с вузовскими дипломами возникнут и будут пользоваться большим спросом дипломы профессиональных экзаменов, профессиональные сертификаты, так называемые micro degrees, которые будут свидетельствовать, что человек освоил, например, тот или иной уровень системного программирования, тот или иной уровень медицинской технологии и т. д. И curriculum vitæ человека будет складываться не только из диплома, он будет складываться из совокупности этих сигналов, этих micro degree. Здесь университетская система снова столкнется с сильным вызовом, потому что университеты точно захотят в эту систему входить, многие из них и сейчас участвуют в игре с micro degree. Cisco-центры, например, возьмем. Но такие «центры компаний в университетах» составляют, условно, 2–3% от того, что предлагают вузы на рынке. А представим себе ситуацию, когда это 30– 50%. Как в таких условиях перестроятся университеты, можно только предполагать, но перестройка будет сильная.
 Как изменится структура высшей школы под влиянием всех этих факторов? Будет новая устойчивая сегментация, причем практически во всех странах, кроме совсем бедных и слаборазвитых. Выделятся глобальные исследовательские университеты, которые помимо исследований будут развиваться как проектные университеты, как университеты, реализующие вокруг себя сетку стартапов, создающие благоприятную среду для новых бизнесов своих выпускников, для новых социальных инициатив, клубов и т. д. Тут я тоже с Песковым могу согласиться, это точно будет. Эти глобальные проекты и исследовательские университеты выделятся в каждой стране— это те, кто сможет конкурировать в новой глобальной образовательной системе, хотя бы за счет приемлемого качества в сочетании с низкими затратами или как «мост» на большой региональный рынок.
Как изменится структура высшей школы под влиянием всех этих факторов? Будет новая устойчивая сегментация, причем практически во всех странах, кроме совсем бедных и слаборазвитых. Выделятся глобальные исследовательские университеты, которые помимо исследований будут развиваться как проектные университеты, как университеты, реализующие вокруг себя сетку стартапов, создающие благоприятную среду для новых бизнесов своих выпускников, для новых социальных инициатив, клубов и т. д. Тут я тоже с Песковым могу согласиться, это точно будет. Эти глобальные проекты и исследовательские университеты выделятся в каждой стране— это те, кто сможет конкурировать в новой глобальной образовательной системе, хотя бы за счет приемлемого качества в сочетании с низкими затратами или как «мост» на большой региональный рынок.
Каковы параметры глобальной конкуренции? Во-первых, это заработная плата. В ведущих российских университетах сегодня зарплата профессора примерно в 4–5 раз ниже, чем средняя заработная плата в университетах развитых стран. Патриотизмом это не перешибешь, к сожалению, это перешибается только инерцией, привычкой профессоров получать мало. А инерция — очень плохой союзник в том процессе, о котором мы говорим. Профессор, существующий по инерции, как правило, не очень хороший инноватор. Поэтому наличие группы ведущих университетов, конкурирующих на глобальном рынке,— это вопрос национальной безопасности каждого государства, и нам в скором времени придется тратить столько, сколько нужно, не только на авианосцы и ракеты, но и на мозги. Это, кстати, не только университетов касается, это касается и исследовательских центров, это касается корпоративных лабораторий и т. д. Мы не сможем дальше по инерции выживать с в 3–4 раза меньшим, чем в ведущих странах, уровнем вознаграждения в науке, образовании и медицине. Поэтому число этих университетов будет прямо пропорционально доходам государства. В России есть возможность относительно спокойно за 10 лет воссоздать и удерживать 25–30 таких университетов. Если очень сильно напряжется наша страна, то, по всей видимости, 50. Это мало. И первое, и даже второе мало. Нам надо искать асимметричный ответ на конкуренцию, потому что если у нас столько же глобальных университетов, как в Германии и во Франции, которые намного меньше, чем наша страна, то это очень серьезная проблема и очень сильный вызов. Дополнительная проблема состоит вот в чем. У нас группа «5–100», которую в свое время критиковал Дмитрий Николаевич, действительно немножко странно сформирована. Там есть несколько аэрокосмических университетов, но нет ни одного транспортного, там нет аграрного университета, там есть только один медицинский. И конечно, это очень странно, потому что наша страна нуждается в глобальном уровне технологий на каждом направлении. И отговариваться тем, что эти университеты представили худшие программы… Давайте заменим менеджмент, сделаем еще что-то, но бросать сферу транспорта мы точно не можем, бросать сферу сельского хозяйства мы точно не можем. И есть еще несколько сфер, где у нас нет пока никаких телодвижений к тому, чтобы такого рода университеты сделать. Это область искусства в первую очередь, где быстро растет экономическая значимость, это строительство, это сервисные технологии.
Вторая важная группа университетов— это университеты, которые не могут конкурировать в глобальной науке, но которые, безусловно, нужны как центры интеллектуальной концентрации в регионах. У них будет выходить на первый план социальная функция — как выращивания местных бизнесов и социальных проектов, так и создания широкого культурного шлейфа. Это будет и в первой группе университетов, но в первой будут международные лаборатории, а во второй, по всей видимости, какие-то лаборатории будут, но это будут точечные элементы. Я, кстати, считаю, что очень важно, чтобы мы имели инфраструктуру поддержки вот таких региональных нормальных университетов, чтобы хотя бы по две-три сильные лаборатории в каждом из них были, потому что, если мы заранее опустим в них потолок… Ну нельзя жить пригибаясь, понимаете? Значительную часть базовых курсов региональные университеты смогут заместить зачетом лучших онлайн-курсов— это поможет сэкономить средства и направить их на финансирование настоящей, неимитационной науки.
Но вот функция расширенного университета, о которой Дмитрий Николаевич говорил, и я с ним абсолютно согласен,— она будет корневой для опорных региональных вузов. Возьмем инкубаторы, бизнес-парки, которые сегодня насоздавали практически все регионы и которые работают не сказать чтобы с большим успехом. Включим этот «инновационный пояс» в состав вузов. Дадим вузам какое-то базовое финансирование на то, чтобы они лучшую четверть, лучшую треть своих выпускников не отпускали бы сразу, помогали бы им создавать новые формы активности, новые формы проектов. У нас альтернативы этому нет в регионах практически никакой. Все-таки университет — это такая приподнимающая среда, об этом не надо забывать. И вот эта функция, эта форма университетов как точек концентрации— интеллектуальной концентрации, креативной концентрации регионов — абсолютно необходима. При этом лучше, чтобы их было хотя бы два в каждом регионе. Потому что если оставим один университет в регионе — понятно, что возникнет риск загнивания. То есть речь должна идти примерно о ста университетах такого рода в стране.
Третий тип университетов — это должны быть университеты, которые обслуживают процессы онлайн-обучения. Половина студентов в России сейчас — заочники, так будет и дальше. Фактически это университеты, которые помогают людям складывать для себя степень из многочисленных коротких курсов, которые они россыпью прошли. Почему такого рода степень не могут давать вузы— провайдеры этих онлайн-курсов? Потому что они тогда рискуют своей репутацией. Я не вижу стимулов для ведущих университетов давать свой диплом на порядок большему числу выпускников, явно более слабых, чем их нынешние выпускники. Следовательно, есть площадка для таких вузов-комбинаторов— в хорошем смысле комбинаторов. У них есть еще важная функция локального консалтинга, локального собирания неких групп поддержки тех, кто учится онлайн. Совершенно точно такого рода университеты будут, и функция этих университетов— обеспечивать максимально широкий охват высшим образованием, которое сегодня является социальным императивом для населения любой развитой страны.
Четвертый тип университетов — это то, что должно вырасти из нынешних техникумов. Это сейчас называют прикладным бакалавриатом, но это шире, чем прикладной бакалавриат. На рынке труда 2030 г. профессии людей, работающих руками, будут дефицитными, будут высокопрестижными. Да и сейчас посмотрите на шеф-повара или хорошего мастера-парикмахера — это люди очень уважаемые, не меньше профессора, у них не хуже развита голова. Вот это будет расти и развиваться. Оформятся большие сектора людей, работа которых связана со сложными рутинными операциями, но с повышенной ответственностью. Почему пилот самолета должен у нас иметь одно или два высших образования, а машинист поезда— нет? У них ответственность за жизнь людей примерно одинаковая, в конце концов, у врачей огромная часть их деятельности — это выполнение протоколов, и никто не говорит, что врач не должен иметь высшего образования. То есть необходима культурная прокладка для нового поколения работающих руками людей, доля их не будет больше трети в будущей экономике, но это будет очень важная и очень уважаемая часть. И конечно, специфические школы, такие же, как актерские, для них должны существовать. Они в ряде случаев есть уже в Западной Европе, можно поучиться, каким образом они готовят поваров, краснодеревщиков, переплетчиков. Самые узкие программы есть, и причем есть несколько типов программ. Ты можешь осваивать чисто переплетное дело, а есть программы, когда тебе читают массу курсов вокруг книг XVII в., которые ты переплетаешь: что такое XVII в., какова там культура и т. д., и ты обрастаешь неким объемом на первый взгляд необязательного знания. В чем вообще главный смысл университета, почему университет сохранится как среда — я в этом уверен? Университет — это кладезь и генератор необязательного знания. Знания, которое ты не обязан профессионально применить, но которое ты можешь применить— по своему выбору и неожиданно для окружающих. Знания, которое ты не просто откладываешь на потом, а которое ты получаешь, потому что тебе интересно. Необязательность жизни будет резко возрастать через 10–20–30 лет. А что такое необязательность? Это креативность. Это наше самопорождение нового, если хотите.
Мы можем найти еще некие другие формы: корпоративные университеты, например, которые явно разовьются. Но я бы хотел отдельно остановиться на судьбе коммерции в образовании, на коммерческих проектах, окупающихся проектах в образовании. Чем может стать образовательный бизнес? Во-первых, он будет расти вокруг университетов, потому что человек, который создает новое, которому принадлежит часть интеллектуальной собственности или вся она полностью, далеко не во всех случаях, но часто захочет это новое капитализировать, он захочет чувствовать себя предпринимателем. Одной из ключевых проблем для юристов будущего будет деление той интеллектуальной собственности, той собственности на нематериальные активы, которую создает, например, профессор университета в своей лаборатории. В какой степени может он этой собственностью пользоваться и эксклюзивно присваивать результаты? Какова граница прав его университета, какова граница прав его коллег? Это, кстати, гораздо более сложная вещь— права его коллег, чем права университета. И я думаю, что ближайшие 20 лет будут наполнены жаркими дискуссиями по этому поводу, схватками в судах и т. д., как всегда, когда вырастает нечто новое, не формализованное пока в юридической практике. Мой прогноз такой: минимум треть предложений на рынке образования в 2035 г. будут выставлять не университеты, а корпорации, в которые преобразуются крупные издательства типа «Просвещения» и «Дрофы», будут выставлять фирмы, которые зарабатывают своими учебными центрами, будут выставлять стартапы, специализированные учебные фирмы, хотя я думаю, что средний срок жизни этих фирм будет относительно коротким.
Теперь я бы хотел несколько слов сказать по поводу тех тем, которые поднял Дмитрий Николаевич. Он перечислял много задач университетов: генераторы новых форм, новых ассоциаций и новых бизнесов. С этим я полностью согласен: университеты могут и должны генерировать новые формы. Но это делает не университет посредством ученого совета, это делает выпускник, это делает доцент, т. е. это делает один человек, оставаясь в ауре университета. Почему он остается в ауре университета, почему мы хотим оставлять его в зоне притяжения университета? Потому что университет — это огромный круг бесплатного общения. Самой большой ценностью являются информация и скорость ее получения, самой большой ценностью являются контакты доверительные. На чем выросла Силиконовая долина? На огромной концентрации интеллекта и бизнеса, который на нем работает. Университеты и есть эти точки концентрации интеллектуального обмена. При этом ты не платишь за поиск, ты не платишь за знакомство, не платишь за завтрак с Уорреном Баффетом— все это есть у тебя бесплатно, ты включен в эту систему. Это совершенно точно сработает, и при возрастании роли информации как экономического ресурса просто включенность, принадлежность к определенному сообществу может стать критическим условием успеха. Более того, возникает и обратное тяготение у выпускника, который может в университет с низкими издержками возвращаться.
О дефектах университетов. Я не очень понимаю, что такое вечность зданий, я бы это сформулировал по-другому: неадекватные инвестиции. Мне кажется, что успешное развитие Вышки объясняется еще и тем, что мы с самого начала правильно вкладывали ресурсы. Мы трудно жили в смысле пространства первые 15 лет, но решили, что будем инвестировать только в преподавателей и в библиотеки.
В конце 1990-х ехал я по Питеру с одним ректором— и вижу здание, которое на наших глазах облицовывают мрамором. Я спрашиваю: «Чье это здание?» — «А вот такого-то вуза». Я говорю: «Какие же там должны быть заработки, в этом вузе, что на мрамор хватает?» — «Да ты что, они гроши платят». Тогда у меня сложилась в голове модель: для того чтобы выжить, плохому ректору ни в коем случае нельзя повышать зарплату своим профессорам, вместо этого можно строить фонтаны или обкладывать фасады мрамором — делать такие инвестиции, которые не имеют отношения к профессорам. Почему? Потому что феодальная модель университета 1990-х базировалась на невключенности. Профессор, получающий в своем университете 6–8 тысяч рублей, на эти деньги, понятно, прожить не может, он ищет дополнительные работы. А если он в этом вузе получает 1/5 своего дохода, он никогда не объединится с другими профессорами и этого дурака ректора не скинет, потому что затраты нервные и возможные денежные выигрыши будут абсолютно непропорциональны его усилиям и потерям. Но если профессор получает в университете 70% своего дохода, он становится опасен: он же может тебя заголосовать, снять и т. д. Ученый совет ВШЭ обычно проходит так, что минимум 20% проектов решений, которые вносит администрация, с первого раза отвергаются. Новичкам иногда кажется, когда они глядят на наши страсти, что вот-вот переворот случится. Просто члены ученого совета воспринимают университет как свой, а не как некоторое учреждение, где их наняли лекцию почитать.
Кстати, этого университета, с мраморным фасадом, уже нет. Я знаю абсолютно честных ректоров, которые инвестировали в пассивные активы и строили здания. Я их понимаю, но это были неправильные инвестиции. Можно жить с пятью метрами на студента — кстати, Вышка сейчас живет с восемью метрами на студента, при этом все считают, что мы очень хорошо живем. У нас постоянно отстает материальная база. Я знаю еще несколько вузов, в которых отстает материальная база. Плехановский университет, Университет ИТМО в Питере. Ну и что? Это кто-то замечает? Наоборот, все считают, что мы с ними крутые. А вузы, которые инвестируют в пассивные активы, которые имеют 30 метров на студента, часто отстают. Я, наверное, соглашусь с тем, что это дефект университетов, но я не считаю, что он неустраним. Просто, по мере того как общество становится более богатым, вот эти самые пассивные фонды становятся все менее значимыми.
Синхронность образования — очень интересный тезис. Она действительно и в школе, и в вузе включает тормоза. Потому что стандарт как механизм ориентирован на то, чтобы все справились с программой. Но есть отстающие, а есть передовики. Есть выход из этой ситуации без отказа от синхронности образования, которая структурирует деятельность и экономит массу полезных вещей? Есть. Это инструменты поддержки для отстающих и лаборатории для тех, кто успевает лучше. То есть для передовиков возникает дополнительный трек. А отстающих их более передовые товарищи консультируют, они тоже не выпадают. Но это не специфика вуза, это специфика любого образования, и в школе эта проблема гораздо болезненнее, чем в вузе, потому что там ребенок не защищен, он не может за себя постоять, даже часто не может объяснить, что у него не так.
Можно ли сконцентрировать лучших преподавателей в одном месте? Мне кажется, что онлайн делает эту задачу выполнимой. Что касается негибкой и неэффективной финансовой модели, для начала надо с помощью государства и любых других учредителей вузов решить проблему недофинансирования, т. е. производственная функция университета должна избавиться от сегодняшних искажений, когда лаборатория стоит, а реактивы купить не на что, когда профессору наконец нормально платят, а менеджера на факультете нет. Только тогда мы сможем говорить о содержательной корректировке финансовой модели. Сегодня у нас финансовая модель университета деформирована в первую очередь тем, что университеты почти не получают средств на новое оборудование, практически не получают ассигнований на содержание зданий — треть получают от необходимого, не получают адекватных денег на то, чтобы организаторы учебного процесса зарабатывали не 10 тысяч, а хотя бы 50, и за эти деньги мы бы нашли нормальных людей… О финансовой модели надо все-таки говорить широко, с учетом обязательств государства, обязательств общества.
Аржанова. Спасибо, Ярослав Иванович. Дмитрий Николаевич, есть ли какая-то позиция, вопросы, комментарии?
 Песков. Да. Мне понятно, что мы в целом сходимся— в том, что касается национальной политики по развитию университетов, судьбы программы «5–100» и идеи о необходимости иметь лидирующие профильные вузы. Мне кажется, в этой логике требуется дополнительный ответ на вопрос, за счет каких технологических решений можно обеспечить ведущую профильность подобного рода университетов. Дело в том, что ключевых технологий, которые оказывают влияние на будущее, гораздо меньше, чем отраслей и направлений. Грубо говоря, базовый технологический пакет примерно одинаков практически для всех отраслей. Связка «большие данные—искусственный интеллект—распределенный реестр» одинаково важна для транспорта, для сельского хозяйства и даже для гуманитарного института. И компетенции на то, чтобы создать 20 или 30 университетов, в которых будут равно сильные школы, способные это профилирование обеспечить, мне кажется, в стране нет. Здесь нужно, чтобы профильность с точки зрения контента университет обеспечивал сам, а технологическая платформа или несколько технологических платформ были общими. Только за счет такой странной синергии мы можем получить высокое качество, для иных вариантов у нас минимально достаточного человеческого капитала просто нет. В чем я не до конца уверен, так это в социальном императиве высшего образования. Этот императив кажется мне в некоторой степени наследством предыдущего тренда общемирового и российского, но сегодня мы видим существенные изменения этого тренда. В 2017 г. 56% девятиклассников выбрали колледжи, а не окончание школы. Даже если учесть, что в значительной степени этот выбор обусловлен их страхом перед сдачей ЕГЭ и они потом все равно хотят пойти в вузы, даже с этой поправкой число и ценность практических навыков серьезно увеличивается. Мне кажется, что есть некоторое встроенное из прошлого представление об эксклюзивности университета как места генерации необязательного знания. Разве те же самые социальные связи и необязательные знания не реализуются в игре, разве человек не получает их в игре, не получает в социальной сети? Почему он не получает их в micro degree или микромоделях социального общения, в фестах каких-то или в лагерях? Прекрасно получает, и с точки зрения ценности дружбы и сообщества эти социальные связи оказываются вполне продуктивными. Давайте сравним. Кто сильнее сегодня: Harvard alumni или alumni крупного фестиваля, который в пустыне проходит,—Burning man? Что-то мне подсказывает, что по уровню культурных трансформаций, которые происходят у человека с возникновением социальных связей, Burning man уделывает, извините за сленг, Гарвард в несколько раз. Похоже, и этот эксклюзив тоже в определенной степени от университетов уходит.
Песков. Да. Мне понятно, что мы в целом сходимся— в том, что касается национальной политики по развитию университетов, судьбы программы «5–100» и идеи о необходимости иметь лидирующие профильные вузы. Мне кажется, в этой логике требуется дополнительный ответ на вопрос, за счет каких технологических решений можно обеспечить ведущую профильность подобного рода университетов. Дело в том, что ключевых технологий, которые оказывают влияние на будущее, гораздо меньше, чем отраслей и направлений. Грубо говоря, базовый технологический пакет примерно одинаков практически для всех отраслей. Связка «большие данные—искусственный интеллект—распределенный реестр» одинаково важна для транспорта, для сельского хозяйства и даже для гуманитарного института. И компетенции на то, чтобы создать 20 или 30 университетов, в которых будут равно сильные школы, способные это профилирование обеспечить, мне кажется, в стране нет. Здесь нужно, чтобы профильность с точки зрения контента университет обеспечивал сам, а технологическая платформа или несколько технологических платформ были общими. Только за счет такой странной синергии мы можем получить высокое качество, для иных вариантов у нас минимально достаточного человеческого капитала просто нет. В чем я не до конца уверен, так это в социальном императиве высшего образования. Этот императив кажется мне в некоторой степени наследством предыдущего тренда общемирового и российского, но сегодня мы видим существенные изменения этого тренда. В 2017 г. 56% девятиклассников выбрали колледжи, а не окончание школы. Даже если учесть, что в значительной степени этот выбор обусловлен их страхом перед сдачей ЕГЭ и они потом все равно хотят пойти в вузы, даже с этой поправкой число и ценность практических навыков серьезно увеличивается. Мне кажется, что есть некоторое встроенное из прошлого представление об эксклюзивности университета как места генерации необязательного знания. Разве те же самые социальные связи и необязательные знания не реализуются в игре, разве человек не получает их в игре, не получает в социальной сети? Почему он не получает их в micro degree или микромоделях социального общения, в фестах каких-то или в лагерях? Прекрасно получает, и с точки зрения ценности дружбы и сообщества эти социальные связи оказываются вполне продуктивными. Давайте сравним. Кто сильнее сегодня: Harvard alumni или alumni крупного фестиваля, который в пустыне проходит,—Burning man? Что-то мне подсказывает, что по уровню культурных трансформаций, которые происходят у человека с возникновением социальных связей, Burning man уделывает, извините за сленг, Гарвард в несколько раз. Похоже, и этот эксклюзив тоже в определенной степени от университетов уходит.
И последнее замечание. Когда я говорил о финансовых моделях, я говорил не только и не столько о недофинансированности—я абсолютно согласен, это минимум миниморум, с которого можно вообще о чем-то разговаривать,— сколько о способности привлекать и формировать новые инвестиционные модели. А инвестиционные модели— это же одновременно модели формирования сообществ. Мы в голове просто еще не до конца докрутили эту логику. Я знаю, что произойдет, когда и если ВШЭ захочет создать полноценное сообщество и вернуться даже не к модели гумбольдтовского университета, а к модели, которая тоже сейчас является возможной,— к модели средневекового университета, в XIV в. Тогда ВШЭ проведет IPO, у нее появятся bounty-профессора так называемые. Возможности привлечения инвестиций, которые возникают в этой новой технологической реальности, на порядок выше тех инвестиций, которые мы можем привлечь, забрав эти деньги у государства насильственным образом. Вот такие заметки на полях я хотел бы зафиксировать, хотя в целом, безусловно, мы двигаемся в одну сторону.
 Кузьминов. Дмитрий Николаевич очень интересные соображения высказал, на которые я попробую ответить. Первое— это технологическая платформа, которая объединяет ряд вузов. Безусловно, мы не очень богатая страна, и, совершенно очевидно, нам надо выстраивать такого рода системы, начиная с центра коллективного пользования. Это достаточно давно провозглашается. Вы знаете, что уровень загруженности оборудования в разных научных центрах, даже в корпорациях, составляет 20–30%, поэтому если говорить о несимметричных ответах, то это первое, что нужно делать. И если Агентство стратегических инициатив будет с нами в этом направлении работать, мы должны искать и демонстрировать руководству: смотрите, сколько пустых мест, давайте мы подберем под них пользователей, объявим конкурсы этих пользователей, и мы совершенно из воздуха сделаем новые исследовательские команды и новые исследовательские возможности и возможности подготовки профессионалов. Я думаю, что это очень хорошее и правильное предложение, могу только проголосовать за него.
Кузьминов. Дмитрий Николаевич очень интересные соображения высказал, на которые я попробую ответить. Первое— это технологическая платформа, которая объединяет ряд вузов. Безусловно, мы не очень богатая страна, и, совершенно очевидно, нам надо выстраивать такого рода системы, начиная с центра коллективного пользования. Это достаточно давно провозглашается. Вы знаете, что уровень загруженности оборудования в разных научных центрах, даже в корпорациях, составляет 20–30%, поэтому если говорить о несимметричных ответах, то это первое, что нужно делать. И если Агентство стратегических инициатив будет с нами в этом направлении работать, мы должны искать и демонстрировать руководству: смотрите, сколько пустых мест, давайте мы подберем под них пользователей, объявим конкурсы этих пользователей, и мы совершенно из воздуха сделаем новые исследовательские команды и новые исследовательские возможности и возможности подготовки профессионалов. Я думаю, что это очень хорошее и правильное предложение, могу только проголосовать за него.
Очень интересная тема альтернативного университета. В какой степени университет может потерять свою роль социального императива? Это только история нам ответит. Но мне кажется, что все-таки основной аргумент— то, что для меня является аргументом,— я уже выдвинул: университет есть колоссальное сообщество с минимизированными издержками общения, получения информации, допуска к разным ассоциациям. Фестивали, самопоиск, форумы, группы интересов гораздо локальнее, чем университеты. Если искать в будущем какую-то форму отрицания университета, то, наверное, это большие сетевые ассоциации, виртуальные ассоциации. В какой степени они смогут выступать альтернативой— давайте глядеть, потому что мы договорились, что не можем многое просчитать, мы можем только видеть векторы.
Что касается выбора колледжа. Дмитрий Николаевич уже сказал: 80% выпускников сразу же или через год поступают в вузы. Больше 60% никак не используют в работе полученные знания и умения. Я боюсь, что нынешняя модель колледжа нуждается в очищении от людей, которые не хотят работать руками, не видят этой карьеры, а просто используют наивность государства, записывающего их в колледж и думающего, что вот сейчас-то они пойдут пахать, сеять и т. д. Для этого надо сделать простую вещь: прием в вуз только через ЕГЭ. Тогда вместо 56% будет снова 20–25%, но тех, кто реально хочет работать. 20% после 9-го и 10% после 11-го класса— это как раз и есть необходимая обществу когорта людей, квалифицированно и ответственно работающих руками. Надо еще думать о том, чтобы общеобразовательная школа не сталкивала в этот трек своих неудачников. Работа руками требует особенных способностей, таланта. Талант должен поощряться обществом и воспитываться на примерах профессионального успеха, на технологиях, которые будут крутыми в глазах детей. То есть надо не позднее 5–6-го класса все это дело начинать и создавать новые технологии в средней школе уже, не в старшей.
Мне кажется интересной идея капитализации академических сообществ и IPO университетов. Если у нас действительно возрастает ценность сообществ и ценность общения, ценность доступа к информации и она может капитализироваться, то университеты должны будут выходить на эти площадки и капитализировать себя. Становясь корпорациями, если хотите. Совладелец этой корпорации не только денежный доход будет получать, он будет иметь повышенные шансы на собственное продвижение и обучение своих детей. Мне кажется, что для университетов-лидеров это хороший вариант, он интересный. Думаю, до 2025 г. мы эту форму не отработаем, но трек такой я вижу.
Аржанова. Спасибо. Может быть, я не права, но мне показалось, что, несмотря на схожесть многих конкретных позиций, вы сегодня представили две совершенно разные картины будущего. Дмитрий Николаевич больше говорил об изменении университетов, фактически о размывании границ университетов, о том, что университет в форматах сегодняшних институций в будущем— это неэффективная как минимум структура и по содержанию, и по функциям, и по ролям. Ярослав Иванович считает, что будущее университетов — это по-прежнему университеты-здания, это понятные, очерченные институты. У них разные миссии, разные возможности, разные задачи, но это все-таки эволюционная линия, продолжающая развивать сегодняшнюю систему высшего образования. Вот такими мне показались позиции выступающих, очень разные в своей основе.
У меня к вам два вопроса. Во-первых, если говорить не про потребности экономики, не про цифровизацию, а про людей: дети будущего, которые пойдут в эти университеты, или их родители, которые их туда направят,— за чем больше пойдут? Им будет важно получить набор компетенций, которые можно приобрести в собранном виде в каких-то компаниях, в каком-то институте, в университете, сформировав уникальную структуру знаний и навыков с ориентацией на зарплату, на трудоустройство, на позицию в стране или на глобальном рынке труда? Или все-таки этим детям через 15–20 лет будет важен некий брендовый документ, который становится фактически твоей маркой на всю жизнь: ты окончил Гарвард, ВШЭ, МГИМО или что-то еще, и это как метка, означающая, что ты человек определенного уровня знаний, возможностей, статуса? А все остальное ты добираешь в тех дополнительных компаниях, которые университет поглотил, или которые существуют вокруг него. За чем пойдут люди? Ведь главным заказчиком для университетов в любом случае являются люди, которые могут и не прислушаться к государственной или экономической политике, а все равно хотеть получать конкретное какое-то образование в конкретном вузе.
И второй вопрос сразу задам. И Дмитрий Николаевич, и Ярослав Иванович сказали, что у университетов, особенно у лидирующих,— опять же неважно, в какой форме они существуют,— будет функция не реакции на то, что происходит извне, не тормоза тому, что происходит вовне, а продуцирования чего-то нового: новых отраслей, новых направлений, новых профессий, новых проектов, еще чего-то нового. У меня вопрос к обоим участникам: когда мы говорим про российские университеты, не про абстрактные и не про лидеров «5–100», как вы считаете, откуда там возьмутся силы? Даже если будет больше финансирования для этих университетов, если государство напряжется и выделит больше средств, откуда там возьмутся силы, идеи и какие-то реальные тренды? Кто внутри этих университетов является драйвером создания нового? У нас сегодня есть те же самые преподаватели, приходит кто-то новый, через 15 лет они уже будут новой какой-то массой, которая всю жизнь работает в этом университете или в других университетах. Они же так же увязнут в этой среде, которая дает уникальные возможности для социализации. Кто внутри университетов будет драйвить создание чего-то нового? Что их заставит это делать? Спасибо.
Песков. Можно, я со второго начну? Мне кажется, что не менее важным требованием, помимо денег, является нормативный режим. Я горячо уверен, что единственная возможная форма для передовых университетов—это распространение на них режима, который у нас есть: у фонда «Сколково», у торов так называемых, территорий опережающего развития, у особых экономических зон. Особые экономические зоны работают плохо, «Сколково» чуть получше, торы— плюс-минус. При таком режиме университеты становятся корпорациями, у которых изменяется принципиальная модель управления и появляется управляющая компания, берущая на себя ряд функций. В последнее время университеты в России создаются именно в такой логике, мы просто еще это не осознали. Два последних созданных в России университета, у которых самый высокий уровень расходов в пересчете на одного студента, функционируют именно в такой логике. Это Сколтех и Иннополис. Иннополис совмещен с логикой особой экономической зоны, Сколтех функционирует в режиме отдельного закона о фонде «Сколково». Ту же самую модель мы сегодня прорабатываем применительно к развитию города Южный и созданию там режима тора. В этой же логике себя видит Дальневосточный федеральный университет, синхронизируясь с режимом тора острова Русский. Такой режим— необходимое условие для того, чтобы можно было эту активность «распаковывать», и он не менее важен, чем деньги.
Кто может быть движущей силой изменений? Понятно, что в режиме браунфилда сделать это нельзя, понятно, что в режиме гринфилда это делать слишком дорого. Мой ответ такой: вот есть браунфилд, в нем должны быть гринфилды в «режиме бутерброда»: сверху управляющая компания и наблюдательный совет, инициаторы изменений, снизу и внутри браунфилда отдельные модельные структуры, которые функционируют в новой логике, и система бенчмарков, поощряющая студентов и преподавателей двигаться в сторону этих модельных структур.
Источников изменений четыре, с моей точки зрения. Первый и самый мощный — государство, которое вынуждено будет менять, в частности, состав ректоров и формировать по-другому элитные советы. Второй— это, безусловно, сеть выпускников. Например, в истории с Физтехом ассоциация выпускников является мощнейшим драйвером изменений, она оказывает на университет воздействие гораздо более сильное, чем действующий электорат. Третье — это, конечно, передовые технологические компании, которые войдут в альянс с вузами, готовыми рискнуть и стать этими самыми торами. И четвертый немаловажный источник — это школьники и студенты, которые приходят в университет учиться. Почему? Потому что в части технологий и образа мышления вам неоткуда взять изменения, кроме как у этих школьников и студентов. Их нет ни у компаний, ни у выпускников, ни у государства. С моей точки зрения, университеты будущего — это места, где учатся вместе люди и искусственный интеллект. И это процесс взаимного обучения. Понадобилось мне внутри моей маленькой структуры поставить логику работы с искусственным интеллектом. Мы объявили открытый конкурс на эту позицию, и единственный человек, который прошел этот открытый конкурс,— это десятиклассник. Он принят на работу на позицию руководителя проектов, и у него очень важные полномочия по изменению наших цифровых систем в сторону цифрового будущего. Он ведет учебные программы, мастер-классы, дает рекомендации нашим нынешним подрядчикам и формирует стратегию работы с информационными системами. Нигде в других местах я в стране эту компетенцию не нашел. Только у десятиклассника.
Аржанова. Где же мы найдем людей если не на все университеты, то…
Песков. Да пожалуйста, скупаете всех победителей нашей олимпиады Национальной технологической инициативы. У нас там готовые гении прямо на подбор. По мере того как мы будем эту систему масштабировать за счет тех же кванториумов, junior skills и world skills, у нас эта масса, я надеюсь, будет возрастать. Хотя то, что делает образовательный центр «Сириус»,— это тоже поставка такого рода кадров.
Теперь по первому вопросу— за чем пойдут люди? 80 и 20%, да? 20% пойдут за капитализацией таланта. С моей точки зрения, получение компетенций в университете абсурдно. Потому что точно больше половины необходимых компетенций будет формироваться в среде, в которой они развиваются, а не только в самом университете. И считать, что университет дает компетенции, очень странно.
Аржанова. Университет дает эту среду саму.
Песков. А вот мне кажется, что давно нет. Суперпрофессионалы сегодня вырастают точно не в университете. Когда мы видим сегодня 12–13-летних ребят, которые уже капитализированы, где, как вы думаете, они получили знания выше университетского уровня? Они их получили в онлайновых средах. И по мере развития экономики данных роль и вес онлайновых сред будет существенно возрастать, а роль школ и университетов будет падать.
Аржанова. Не означает ли это, что ребята будут идеально владеть какими-то профессиональными компетенциями, но по-прежнему не смогут разговаривать друг с другом?
Песков. Да прекрасно они будут разговаривать друг с другом, даже матом ругаться. Вы просто поживите в онлайновой среде компьютерных игр многопользовательских. Сегодня это огромный образовательный процесс. Сходите в Raid, посмотрите, как там формируются компетенции.
Аржанова. Я про человеческое общение.
 Песков. А это какое, по-вашему, общение? Формируется команда, выделяются ключевые зоны компетенций, люди договариваются друг с другом о взаимной координации действий и предпринимают сложные социально опосредованные действия, направленные на достижение цели. Там есть все элементы образовательного процесса самого высокого уровня. Думаю, что капитализация таланта останется ключевой функцией для тех, кто способен сам ставить себе задачи. А те, которые «так сказали родители», пойдут в университет. Диплом, мне кажется, для 20% вообще не важен. Мы в год выпускаем несколько тысяч человек, которые у нас проходят через систему world skills. Думаете, кто-нибудь из работодателей хоть раз спросил, какой колледж они закончили? Какой диплом — это уже никому не интересно, и это уже реальность в России в 2017 г. Работодателей интересует, пришел к нему чемпион world skills или нет. Чемпионов отрывают с руками, несмотря вообще ни на что. И тут возникает вопрос синхронности. Если у меня девушка победила на европейском чемпионате, а она учится на 1-м курсе колледжа, зачем ей все остальные курсы колледжа? Ее можно ставить или директором этого колледжа, или главным методистом. Немедленно. Она умеет то, чего вся система не умеет. Она этому научилась не в колледже.
Песков. А это какое, по-вашему, общение? Формируется команда, выделяются ключевые зоны компетенций, люди договариваются друг с другом о взаимной координации действий и предпринимают сложные социально опосредованные действия, направленные на достижение цели. Там есть все элементы образовательного процесса самого высокого уровня. Думаю, что капитализация таланта останется ключевой функцией для тех, кто способен сам ставить себе задачи. А те, которые «так сказали родители», пойдут в университет. Диплом, мне кажется, для 20% вообще не важен. Мы в год выпускаем несколько тысяч человек, которые у нас проходят через систему world skills. Думаете, кто-нибудь из работодателей хоть раз спросил, какой колледж они закончили? Какой диплом — это уже никому не интересно, и это уже реальность в России в 2017 г. Работодателей интересует, пришел к нему чемпион world skills или нет. Чемпионов отрывают с руками, несмотря вообще ни на что. И тут возникает вопрос синхронности. Если у меня девушка победила на европейском чемпионате, а она учится на 1-м курсе колледжа, зачем ей все остальные курсы колледжа? Ее можно ставить или директором этого колледжа, или главным методистом. Немедленно. Она умеет то, чего вся система не умеет. Она этому научилась не в колледже.
 Кузьминов. За чем пойдут в вуз люди через 10 лет? Мне кажется, успехом для нас будет, если действительно 20% пойдут за капитализацией своих талантов. Это значит, что у нас уже до вуза должна быть выстроена система выявления и развития этого таланта—тогда люди пойдут капитализировать свой талант. Остальные 80%, если повезет, все равно будут идти кто за брендом— читай: за социальным капиталом, кто за набором компетенций, обеспечивающим хорошую зарплату. При этом сдвигаться это все будет, и уже сейчас сдвигается именно в погоню за брендом. По простой причине: уже сейчас мы не можем предугадать, какой набор компетенций сыграет на рынке, а завтра все станет еще менее определенным. Мы видим эту тенденцию на ведущих университетах, мы видим ее и на университетах следующей когорты. Даже простейшая покупка диплома— это частный случай погони за брендом. Бренд в данном случае— это бренд не отдельного вуза, а государственной системы высшего образования Российской Федерации. Так работает доверительное измерение. И действительно, люди поступают рационально: средний работодатель, если он не берет чемпиона world skills, опирается на собственный опыт. А опыт ему говорит, что выпускник вуза, как правило, лучше понимает, что от него требуется, быстрее обучается и проч.
Кузьминов. За чем пойдут в вуз люди через 10 лет? Мне кажется, успехом для нас будет, если действительно 20% пойдут за капитализацией своих талантов. Это значит, что у нас уже до вуза должна быть выстроена система выявления и развития этого таланта—тогда люди пойдут капитализировать свой талант. Остальные 80%, если повезет, все равно будут идти кто за брендом— читай: за социальным капиталом, кто за набором компетенций, обеспечивающим хорошую зарплату. При этом сдвигаться это все будет, и уже сейчас сдвигается именно в погоню за брендом. По простой причине: уже сейчас мы не можем предугадать, какой набор компетенций сыграет на рынке, а завтра все станет еще менее определенным. Мы видим эту тенденцию на ведущих университетах, мы видим ее и на университетах следующей когорты. Даже простейшая покупка диплома— это частный случай погони за брендом. Бренд в данном случае— это бренд не отдельного вуза, а государственной системы высшего образования Российской Федерации. Так работает доверительное измерение. И действительно, люди поступают рационально: средний работодатель, если он не берет чемпиона world skills, опирается на собственный опыт. А опыт ему говорит, что выпускник вуза, как правило, лучше понимает, что от него требуется, быстрее обучается и проч.
Может ли быть другая система сигналов вместо ставшего пустым диплома о высшем образовании? Может, мы ее сейчас пытаемся в стране создать. Это профессиональные сертификаты, наличие тебя в открытой или платной базе данных людей, сдавших профессиональные экзамены того или другого уровня. Но, поскольку создающие ее отраслевые объединения институционально и экономически заведомо слабее, чем система вузов, я считаю, что до 2025 г. тенденцию сломить не получится. Она мне не нравится, так же, как и Дмитрию Николаевичу, я с сожалением говорю все это.
Что касается работы руками, это просто образное выражение. Речь идет о профессиях, о направлениях деятельности, где в основе лежит исполнение регламента. И креативность при исполнении регламентов тоже нужна, потому что ты должен понимать, когда остановиться, ты не можешь быть автоматом.
Теперь о том, кто является драйвером внутри университета, кто может стать драйвером перемен. В ВШЭ семь лет назад было, по-моему, только 15% преподавателей, имеющих статьи в ведущих англоязычных журналах. Сейчас 2/3 преподавателей такие статьи имеют. При этом часть преподавателей ушли, их заменили новые, в том числе и наши выпускники, и чужие выпускники, а другая часть, увидев сильные стимулы, изменила себя. То есть нельзя относиться к сотрудникам внутри браунфилда как к людям без перспективы. Это неправильно и обидно для них. Мы должны создавать сильные стимулы— и позитивные, и негативные— к добровольному изменению. И не просто выращивать гринфилд внутри браунфилда, а давать возможность каждому меняться: каждой кафедре и каждому отдельному человеку, каждой лаборатории, показывая сильные и желательно устойчивые стимулы. В Вышке ты 2/3 дохода получаешь на том, что следуешь этим стимулам. Ты следуешь этим стимулам, ты меняешь свое поведение, ты вступаешь в международные коллективы, ты получаешь результаты, которые признаются не на кафедре, а в широком научном мире. Каждые несколько лет показатели, за которые даются те или иные надбавки, повышаются. Эти надбавки составляют 2/3 твоей зарплаты, но они не разовые, не субъективные, ты сам их планируешь, ты собственные усилия планируешь. Во внутренней кухне стимулов в России еще не все отлажено. У человека, которого мы хотим развивать как ученого, должна быть перспектива на пять, а лучше на десять лет вперед, он должен понимать правила игры, он должен понимать, что именно он должен делать для того, чтобы получить такие-то фонды. А мы ухитряемся каждый год менять правила, мы ухитряемся отдавать гранты на 1–2–3 года, только-только со скрипом РНФ начинает обсуждать 3–5-летние гранты. Это смешно. Фундаментальная наука так не работает, даже прикладная наука так работать не может.
Насколько распространение режима территорий опережающего развития и других преференций может дать дополнительный толчок? Хотелось бы, чтобы оно давало толчок коллективу, а не администрации. Если мы запустим процессы, о которых я говорил, то следующим этапом можно относить ведущие университеты к режиму наибольшего благоприятствования в экономической деятельности. Государство на этом ничего не потеряет, вообще ничего. Но вполне возможно, что много приобретет. Спасибо.
Аржанова. Спасибо. У нас есть 10–15 минут на то, чтобы услышать вопросы аудитории и ответить на них.
Малиновский Сергей Сергеевич, заместитель заведующего проектно-учебной лабораторией «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ. А что и кому должен будет университет в 2030 или в 2020 г.? Здесь была предложена такая метафора— университет как пространство необязательного знания, пространство необязательного студенческого опыта и необязательной коммуникации. В этой связи у меня вопрос скорее к Дмитрию Николаевичу: в его видении, в его модели университетов в какой степени это пространство не обязательно, но имеет право на существование? В каждой из перечисленных новых моделей университетов звучит функция «максимизация». Создается впечатление, что университет растворяется в границах корпоративного некоего интереса. А ключевой на самом деле здесь вопрос про роль студента: в какой степени студент в университете в этой новой модели имеет право на что-либо необязательное? Или как в той шутке, извиняюсь за такое сравнение, он подобен кролику, который занимается любовью и не подозревает, что его разводят на мясо. То есть в какой степени студент может чем-то необязательным заниматься— и не только студент? Оборотная сторона этого вопроса: можем ли мы подумать про то, какими новыми функциями и целеполаганием наделить университет? И не стоит ли хозяев университета все-так приструнить и направить их усилия в русло решения конкретных общественных задач, ведь предложенная модель номенклатурных типов университетов выстроена по функциональному принципу: эти занимаются этим, эти занимаются этим, а какие задачи они решают — про это вроде как и не сказано.
Песков. Хороший вопрос про границу обязательного и необязательного. Вы же сами на него ответили своей метафорой про кролика. Ведь у университета есть свобода выбора. Эта свобода выбора ограничена неким набором функций, но этот набор насколько широк, что позволяет создавать новые миры. Это обязательность, но это обязательность творца, который должен создать как минимум шедевр, желательно проект, а в идеале сеттинг как результат своей деятельности в университете. Должны ли при этом остаться чистой воды необязательные университеты? Я горячо уверен, что любое богатое общество может себе их позволить. Вопрос исключительно про ситуацию ближайших 20 лет и можем ли мы отправлять недоопределившиеся таланты в пространство необязательного общения. Не знаю.
Аржанова. Необязательное общение может вылиться на другие, не очень благоприятные поля. Может быть, речь здесь идет о минимизации риска? У нас ведь не только креативные есть сообщества и развивающие.
Песков. Конечно, вы правы. Учет этих обстоятельств как раз усиливает границы обязательности с точки зрения функций и задач, решения которых ждет от университетов государство. Но цель, с моей точки зрения, не является стеной. Цель направляет, а с точки зрения организации пространства внутри университета и пространства взаимодействия университета ключевое слово— это serendipity. То, чего нам не хватает в университетах, и то, во что мы в последнее время инвестируем,— это serendipity management, управление случайностями. Именно грамотность в конструировании случайностей и в управлении случайностями порождает новое. Новое невозможно породить по заказу.
Аржанова. Для меня это звучит как-то близко к анархии, к управляемой анархии.
Песков. Будущее происходит из хаоса, а не из порядка, это точно совершенно.
Кузьминов. Фактически вопрос о новых функциях и целеполагании университета — это вопрос о новых или, точнее, дополнительных хозяевах университета. Это интересный вопрос, но на него есть хороший ответ и есть плохой. Ответ хороший: студенты должны быть в большей степени хозяевами, выпускники должны быть в большей степени хозяевами— это продолженные студенты, которые работают в окружающих университет бизнесах и социальных проектах. Такое расширение круга хозяев университета— это безусловный плюс.
Вторая позитивная когорта новых хозяев — это международные ученые, которые работают в смежных с университетом областях. Университет оптимально должен управляться людьми, представляющими передний край науки, которой этот университет занимается, понятно, что не все они работают в России. В той степени, в которой это не противоречит нашим геополитическим интересам — ведь есть интересы национальной безопасности и другие скучные и неприятные вещи,— мы должны расширять состав хозяев университета, людей, думающих об университете как о своем и принимающих решения, за счет вот этих глобальных профессионалов, работающих вместе с учеными университета. Им должно быть не все равно. Собственно говоря, и в Вышке, и в Томском университете, и в Университете ИТМО мы уже начали идти этим путем, привлекая ряд зарубежных коллег к заинтересованному участию в развитии университета.
Плохой ответ — это бизнес, который дал деньги. Почему это плохой хозяин? Потому что он часто не понимает университет, которому помогает, или понимает его очень односторонне. Все-таки хозяин университета претендует на то, чтобы заниматься целеполаганием, оценками с тем определяющим весом, который имеет мнение хозяина. Он должен любить университет.
Ответственный бизнес, который помогает университету, принципиально не желает принимать участие в управлении, его деньги — это доверительные пожертвования. Он будет высказывать свое мнение, но не будет настаивать, потому что боится прослыть дилетантом. Так работает Попечительский совет ВШЭ.
Песков. То есть деньги должны быть очищены от влияния бизнеса. Я согласен с этим подходом.
Чириков Игорь Сергеевич, директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ. Спасибо большое за оба варианта, в принципе с обоими можно жить, что бы ни случилось, на мой взгляд, это будет здорово. У меня вопрос такой. Университеты в ходе дискуссии обсуждались как очень автономные игроки, но очень часто в России они таковыми не являются, особенно государственные: у них есть учредители, которые любят университеты больше всего. Какова будет роль Министерства образования и науки в 2035 г. и каким вы мыслите себе министерство либо то, что его заменит? Какова роль регулятора в обеих версиях университета будущего? Каким он должен быть, какие функции выполнять, какие будут у него отношения с университетом?
Кузьминов. Я думаю, его роль будет значительно меньше, чем сегодня. Чем более самостоятельными и дееспособными становятся университеты, тем меньше требуется внешнего регулирования и внешнего управления. Я более-менее четко представляю себе, что должно уйти в функции ассоциации университетов. Я думаю, что государственно-общественное регулирование должно смениться просто общественным. В большинстве стран так и есть, и никто от этого не умер. Министерство должно заниматься стратегией, оно должно разрабатывать общие нормы, предотвращающие неблагоприятное для общества использование потенциала университетов. Я надеюсь, что оно точно не будет заниматься планированием направлений, в которых готовить студентов. Если университету нужно говорить, по каким направлениям их готовить, это уже плохой университет.
Государство вообще редко имеет четкое представление, что именно требуется от системы образования в разрезе направлений и профессий. Существующая ситуация, когда из года в год контрольные цифры подготовки инженеров, технологов и педагогов заведомо превышают платежеспособный спрос, это неловкое свидетельство полной неработоспособности действующего механизма. В результате абитуриенты не верят в нормальные перспективы профессионального трудоустройства по этим направлениям, многие сильные выпускники отказываются от такой карьеры, бюджетные места заполняются слабыми, немотивированными учащимися.
Государство имеет действенные инструменты влияния на рынок высшего образования в виде грантов сильным студентам «актуальных» специальностей. Ряд губернаторов уже применяет такой механизм в виде долгосрочного финансирования вузов по приоритетным направлениям, которое включает инвестиции в научные коллективы и оборудование. В этом случае сильные студенты придут сами. Но предписывать точные цифры, сколько студентов ты должен принять по каждому направлению,— это романтизм бухгалтера.
Песков. В идеальном сферическом мире, в котором создается программа цифровой экономики, министерство замещается сервисом. Если есть посредник, который может быть заменен на программное либо человеческое саморегулирование, он должен быть заменен. Я согласен, что часть функций уйдет. Когда мы говорим про 2035 г., мы часто имеем в виду гораздо более ранний срок. Это свойство человеческого мышления: мы не умеем на 20 лет вперед мыслить, мы мыслим на ближайшие пять лет, а утверждаем, что это будет через 20 лет, просто чтобы снять с себя ответственность. Я бы сказал, что для нашей страны целесообразно было бы максимально увязать задачи развития образования с задачами развития экономики. И в этом смысле модель, в которой пирог нарезается как «образование + наука», не очень эффективна. Посмотрим на опыт других стран, которые показали максимальный результат в создании относительно спланированных новых отраслей и экономической эффективности. Прежде всего я бы обратил внимание на британскую модель и на их сборку функций, в которой есть, как это называется у британцев, department for business, innovation and skills. Здесь связка сделана через очень простую логику: есть сквозные навыки, они создают прорывы и те самые инновации, которые потом формируются фактически в новые отрасли, новые растущие бизнесы, нужные стране. Я бы эту функцию отделил от особой функции регулирования всего необязательного. Если следовать логике Ярослава Ивановича, регулирование необязательного может быть прекрасной отдельной функцией от регулирования целесообразного. Их надо разделять. Как именно это может быть сделано, не могу сказать, но уверен, что 2035 г.— это министерство как сервис, а не министерство как регулятор.
Аржанова. Спасибо большое. Отведенное нам время истекает. Мне кажется, у нас сегодня не получилось нарисовать картину 2030 или 2060 г. так, чтобы буквально увидеть, как будет выглядеть высшая школа и к чему мы придем. Но, наверное, это нереально. Зато мы сегодня услышали разные версии направлений, по которым к этому времени может прямо или разветвляясь и уходя в стороны двигаться высшая школа и в мире, и в нашей стране. Я абсолютно уверена, что мы не коснулись очень важных и очень интересных аспектов темы: какими могут быть эти развилки, чем обусловлен отказ от выбранных и объективных направлений развития, от кого зависят эти колебания, откаты назад и невозможность двигаться вперед. Это особая тема для разговора, который может быть продолжен. Поэтому у меня сейчас короткий вопрос к обоим участникам: насколько сегодняшний формат мероприятия показался вам интересным и полезным? Мне кажется, что такой разговор был бы интересен и полезен гораздо большему числу участников. Возможно, его имеет смысл продолжить в другом формате.
Песков. Я бы, конечно, продолжил, может быть, поработав над составом аудитории и форматом. Например, я вижу очень большую пользу в том, чтобы такой диалог проходил с финансистом школы ректорского резерва. Перспективные студенты и ректорский резерв могли бы участвовать в подобного рода дискуссии. Но иметь итерацию не вопросов, а боли людей, которые отвечают за эту работу в действующей системе. Потому что наши картины мира не всеобъемлющие и очень сильно обусловлены элитарным положением либо внутри системы образования, либо вне системы.
Кузьминов. Я думаю, что дискуссия была интересной, я несколько заходов для себя почерпнул из того, что Дмитрий Николаевич говорил. Мне кажется, что она бы выиграла, если бы мы более коротко выступали, но это вообще вещь вкусовая. Имеет смысл дальше обсуждать эту тему в большом составе участников, я с Песковым согласен.


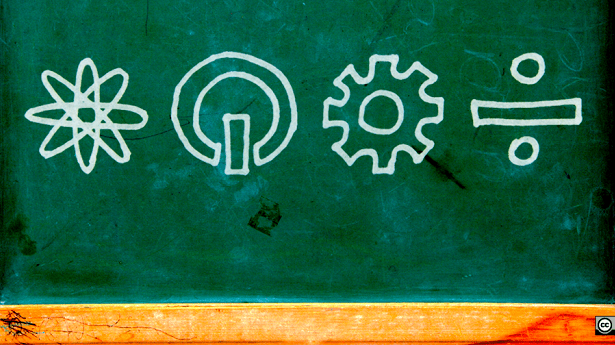




Оставить комментарий